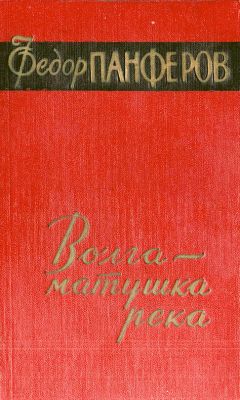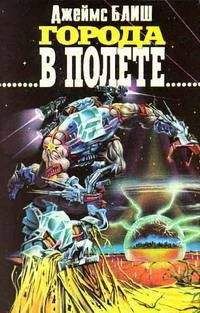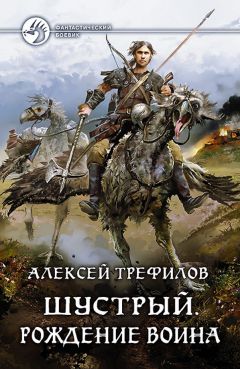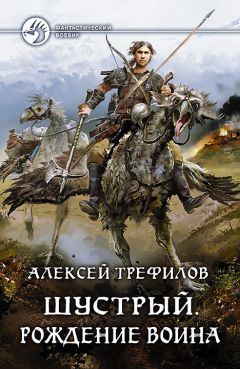Это же подтвердил и Аким Морев. Тогда Анна успокоилась и принялась хозяйничать за столом. Ну, конечно, первую тарелку щей она налила Ивану Евдокимовичу.
— Отведай и суди.
Обедали быстро, похваливая Анну за мастерство, а после сытной еды поднялись из-за стола все разом. Академик, глядя на часы, старинную серебряную «луковицу», скомандовал:
— Аннушка! Осталось в нашем распоряжении двадцать минут. Пошли! Аким Петрович, может, и вы с нами? — Но Ивану Евдокимовичу в душе вовсе не хотелось, чтобы кто-либо третий шел с ним.
— О нет! Благодарю, — понимая, что академик приглашает его из вежливости, произнес Аким Морев. — Мне надо готовиться: ведь завтра в двенадцать открывается пленум. Слышал, Иван Евдокимович, и вас пригласили.
— Буду, — поблагодарив глазами Акима Морева за отказ идти в театр, ответил академик и, подхватив под руку Анну, вышел вместе с нею на лестницу…
6
Его в театре знали многие. Старичок, работающий на вешалке, завидев академика, крикнул:
— Иван Евдокимович, вот я! Не минуйте меня. — И, принимая шляпу, пальто от него и косыночку и пальто от Анны, старичок, умиленно глядя на академика, сказал: — К нам, значит, пожаловали. Видите, после войны все еще временно здесь ютимся: достраивают новый. Ну, хоромы целые!
На академика Ивана Евдокимовича Бахарева смотрели зрители с балкона, из лож, с соседних мест, когда он вместе с Анной сел в третьем ряду. Но так было первые минуты. Потом… потом вдруг взоры всех устремились на нее — на Анну Арбузину.
— Аннушка! Все на тебя смотрят, — шепнул Иван Евдокимович.
— На вас… на тебя, — еле слышно произнесла она и, краснея, потупилась: еще никак не выходило у нее при людях: «ты», «тебя».
А он продолжал:
— Ты самая красивая… Парикмахер? Он что из вашего брата делает? Возьми вон деревянное яблоко — покрашено, аккуратненькое, а кушать его не будешь. Так уж лучше — натуральное. Ты — натуральная.
Она поняла: «натуральная» — значит, хорошо, и потому незаметно от всех пожала его руку выше кисти и что-то хотела было сказать, но занавес поднялся, и на сцене началось действие…
Шла «Летучая мышь».
Анне нравилось и то, как играли, как пели, как танцевали молодые актеры, актрисы, и она временами наклонялась к Ивану Евдокимовичу, шептала:
— Вот какие вы, муженьки… уж красивая, красивая жена, а муженька-попрыгунчика потянуло к другой…
— На то он и попрыгунчик… были, есть и будут, — отвечал он.
В антракте Иван Евдокимович, ведя под руку Анну, гордясь ею, вышел вместе с ней в фойе и тут снова подметил, что взоры всех обращены на нее.
«Не выгляжу ли я около нее, как старый пень около рябины, украшенной гроздьями ягод?» — подумал он и было загрустил, но в эту минуту на него налетел юркий, как стриж, сухонький человек в потертом пиджачке, засаленном галстучке и воскликнул:
— Так и есть! Здесь вы, Иван Евдокимович. Слышал, завтра уезжаете и к нам больше не зайдете. И я — в театр. Думаю, там встречу нашего академика… и доспорим. Так вот, распекли вы работников опорного. А не поспешили, Иван Евдокимович, с выводами?.. Распекать, конечно, положено, но выводы?..
Академик молчал, и Анна почувствовала, как его рука, поддерживающая ее за локоть задрожала.
— Да, — идя в ногу с академиком, продолжал налетевший человек. — Вы ведь прекрасно знаете, Иван Евдокимович, что словом можете убить человека: вы — непререкаемый авторитет.
— Желал бы я иметь у себя в запасе сотняжку таких слов, которыми кое-кого поубивать бы. К сожалению, таких слов у меня нет.
— Резко, но в вашем характере. Однако я, как главный агроном области, другого мнения о работниках Светлого опорного пункта. Это, знаете ли, мученики.
— Судя по их лицам, далеко не мученики. Ничего себе личики… Да оно иначе и не может быть с баранинки да арбузов. Познакомьтесь, Якутов. Моя жена, — заметив вопросительный взгляд собеседника, сказал Иван Евдокимович.
Анна вспыхнула, потому что впервые услышала слова «моя жена», а Якутову показалось — она вспыхнула оттого, что он протянул ей руку.
«Ничего бабец», — заключил он про себя.
«Жена. Жена», — мелькало в уме у Анны это радостное и большое слово. Оно с каждой секундой все росло и росло, переполняя ее всю тем чувством материнства, каким она была переполнена, когда ходила сыном Петром. Нет, это чувство гораздо больше того, прежнего. Может быть, потому, что последнее. «Да нет, — твердила она мысленно. — Я нарожу ему… если он захочет, и сына, и дочь, и еще сына…»
— Ведь вы, Иван Евдокимович, — говорил Якутов, идя теперь рядом с Анной, стараясь костлявым локтем прикоснуться к ней, пытаясь ухаживать в надежде, что она воздействует на своего неугомонного академика. «Конечно, прибрала его к рукам, как куренка: еще бы, такая пышная бабочка», — думал он и продолжал: — Вы, Иван Евдокимович, всего не успели рассмотреть на опорном пункте. Вы в лесопосадку внесли политику.
— Политика, на мой взгляд, сударь, — сердито забурчал академик, — это народный интерес. Лес, говорите, вырастили? А кому нужен их лес? Колхозу ведь не могут рекомендовать такую посадку? Не могут! Стало быть, идут вразрез с политикой партии, народа. А вы — политика, политика. Трактор в нашей стране тоже делает политику. Кому его передать? Кулаку — одна политика, МТС — другая. Удивляюсь, как это вас с такими мыслишками терпят: вишь ты, вырастил за двадцать пять лет поганый гриб — Светлый опорный пункт, да еще защищает, да еще в политику лезет.
Якутов сжался и стал походить на захудалого галчонка, однако продолжал наскакивать:
— Вы… Вы, Иван Евдокимович, невоздержанный на язык, — знаю и прощаю вам, как авторитету. Но ведь вы политикой подменяете все законы биохимии. Ну, ну, скажите ему, — обратился он к Анне, снова прижимаясь к ней локтем. — Нельзя быть в науке таким упрямым. Скажите!
Анна не улавливала смысла спора, а слово «биохимия», впервые услышанное, было для нее чем-то весьма туманным, но она всем сердцем была на стороне Ивана Евдокимовича, а ухаживание Якутова не только раздражало, но и оскорбляло ее, и потому ей захотелось оттолкнуть его, сказать ему что-нибудь резкое, даже грубое. Там, в колхозе, она ему «так отвесила бы», но вот здесь, в театре? И вдруг губы ее дрогнули в озорной улыбке.
«Вот я ему сейчас отвешу», — мелькнуло у нее, и как только Якутов кольнул ее острым локотком, она намеренно резко произнесла:
— Да не толкайте вы меня своим… мослом!
— Что? Чем? — Якутов забежал вперед и, глянув на нее, воскликнул: — Ах, Анна Петровна Арбузина! Садовод знаменитый. Понятно, понятно: в вашем духе выражаться так. Похоже на академика: Иван Евдокимович тоже иной раз такое отвесит, что хоть стой, хоть падай.
— А вы бы почаще падали, глядишь — поумнели бы, — смеясь, проговорил академик. — Пойдем попрыгунчика глядеть, Аннушка. Они не только в семье есть, попрыгунчики, но и в учреждениях, — и, не простившись с Якутовым, он направился вместе с Анной в зрительный зал.
— Якутов — главный агроном области? Не узнала сразу-то я его, — произнесла она, крепко прижимая к себе руку Ивана Евдокимовича.
— Дрянцо.
— Такие и… и, — она так и не могла произнести: «тебя», а сказала: — Такие и терзают.
— Меня? Не только меня… Они народ терзают. А нас-то что? Отобьемся. Грубовато я, может, с ним, да что ж будешь делать, раз вежливых слов не понимает.
Второй акт Анна сидела уже молча, почти ничего не видя и не слыша: перед ней, как в тумане, мелькали люди на сцене — говорили, пели, плясали то поодиночке, то группами. Она напряженно думала о себе. То, что Иван Евдокимович назвал ее своей женой, радовало ее, но в то же время на нее откуда-то надвигался ужас: она почти ничего не поняла из спора между академиком и тем, сухоньким. Что это такое «биохимия»?
«Буду я около него, как индюшка: телом полна, а умом пуста. Все у нас хорошо, пока двое в комнате, а как вышли, с людьми столкнулись — я и хлопаю глазами, будто сова днем… И… и придет время, скажет он мне: «дура», — думала Анна, замерев в кресле, ничего не видя и не слыша.
В театре, по дороге домой и вот теперь, войдя в квартиру, Иван Евдокимович растерянно и недоуменно спрашивал ее:
— Что с тобой, Аннушка? Тревожишь ты меня своей задумчивостью… И не говоришь. Грех ведь так-то относиться ко мне, Аннушка!
— Не знаю, — отвечала она. — Потом скажу. А ты не обращай на меня внимания. Так, загрустила — и все. Касается это только меня. Эх, хоть бы чуточку знать из того, что знаешь ты! — невольно вырвалось у нее.
— А! Это хорошо. Хорошо об этом тосковать. А я уж подумал: стар около тебя.
— Экую глупость в ум свой принял! А я боюсь: окажусь около тебя вроде восемнадцатилетней девчонки, ты и скажешь, придет время: «Да с тобой и разговаривать не о чем: глупа, как курица».