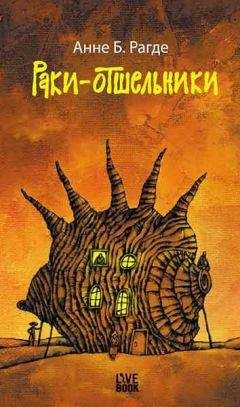— Сашок, давай начнем жизнь по-новому, а?
Саша резко отнял руку, к лицу его вернулась кровь.
— Нечего дурака из меня делать! Сколько уже раз ты начинала новую жизнь? Она у тебя на два дня! С Сайкиным и начинай. Разбивать вашего счастья не хочу!
— Порвала с ним окончательно. На порог не пускаю.
— То-то вчера сидели в обнимку на садовой скамейке.
— Я его так турнула с этой скамейки.
— Вот и нет.
— Побожиться тебе?
Саша только махнул рукой и зашагал по тропинке в гору, к хутору.
— Куда же ты? К длинноногой? — крикнула вслед Варвара.
Саша не ответил, не оглянулся. Набежавший холодный ветер из степи задрал полы его пиджака с боковыми разрезами, как хвост петуха.
— Постой, что я тебе скажу! — Варвара кинулась вдогонку по тропинке. Саша ускорил шаг.
— Постой же!
Саша пустился бегом.
— Каплун стриженый! — крикнула в бессильной злобе Варвара, отставая. Длинная Сашина фигура уже пропала в хуторских садах.
— Каплун! Ублюдок сопливый! Я твоей Ленке волосы выдеру и лицо расцарапаю, родная мать не узнает. Ишь как латата! Подожди же!
Вихрь штопором понес в вышину пыль и сухие листья, перегородил Варваре дорогу. Она прихлопнула вздувшуюся юбку и в последний раз крикнула, вкладывая в слова всю обиду и душевную горечь:
— В райком комсомола пропишу!
Весь день Саша терзался. Чего только не лезло в голову: то казалось, вот-вот вызовут в райком для беседы и дурная слава о нем разнесется по всему району, то нагрянет обозленная Варвара, учинит скандал, побьет мебель, порвет плакаты (стыда не оберешься!), и Саша поминутно отрывался от бумаг и поглядывал с тревогой в окно. А то представлялась Варвара с распущенными космами, мечется по комнате, рвет на себе волосы, хватается за сердце и зовет, зовет своего строптивого дружка. Чудилось и более страшное: Варвара не вынесла разрыва, утопилась и в оставленной записке во всем обвинила Сашу Цымбала.
От такого смятения в голове не сиделось в кабинете, и Саша смахнул бумаги в ящик, пошел по хутору искать Варвару. Как же он был поражен, увидев свинарку с бабами возле магазина, над чем-то весело хохочущую.
Глубокой ночью разразилась буря, ветки яблонь стучали в окна, комната озарялась голубым трепетным светом. Сайкин ворочался, скрипел кроватью — не мог уснуть. То ли буря, то ли ссора с Варварой совсем отняли сон. А тут еще увезенный неизвестно куда мед. Все в нем взыграло. Тогда же он кинулся в правление и на крыльце лицом к лицу столкнулся с Сашей Цымбалом и Захаром Наливайкой.
— Что же это делается, дружинник?
— Что такое?
— Устроили какие-то комсомольские посты, проходу не дают. Захар Наливайка ревизовал у меня пять бидонов меду. Да я до области дойду, нет такого права!
— Подожди, Филипп Артемович. Какие комсомольские посты? Был о них разговор на собрании, но пока этот вопрос не решен.
— Выходит, Наливайка самозванец?
— Выходит, самозванец.
— А красную повязку для чего носит?
— Какую повязку? Что за мед он ревизовал? Первый раз слышу… Захар! — Саша обернулся, но Наливайки и след простыл.
Филипп Артемович мельком заметил, как он юркнул за угол дома, поглубже засовывая в карман выглядывавшую наружу красную повязку.
«Надул, стервец! Как надул!» — Зеленея от злости, Сайкин толкнул дверь в кабинет председателя колхоза.
— За… запрета на… на пчел будто нет. Го… государство поощряет… это… это дело, — сказал он, перемежая свою речь частыми глотками воды, которую поспешно подала ему Елена, испугавшись бледного лица и дрожи в руках.
— Зачем вам нужно было прятать мед в колхозную кладовую?
— Я… я… я… — икота прямо-таки одолела Сайкина.
— Можете забрать бидоны. Они у Чопа в кладовой.
Теперь было стыдно вспомнить об этом разговоре. Сайкин несколько раз поднимался и на цыпочках, боясь разбудить Елену в соседней комнате, шел на кухню, в темноте опрокидывал в рот чайную ложку противно-горьковатой соды, которой проглотил за долгую жизнь не один пуд, садился у стола, глядя, как по стеклам, пузырясь, бежали дождевые ручьи. На дворе трещало, выло, грохотало, тарабанило по железной крыше дома, и Сайкину казалось, что время остановилось, бытие ушло в вечность, лишь взбудораженная природа властвовала в мире. И вся его жизнь, от сознательного начала до сегодняшнего дня, бурная и непонятная, проносилась перед глазами.
…Посреди деревенской площади застрял в грязи броневик — угловатый и холодный. Третий день сидят в нем, как смертники в тюремной камере, Филипп-пулеметчик и шофер. Месяц назад только что организованный партизанский отряд отбил этот броневик у карателей. Шину переднего колеса, подорванную гранатой, пришлось выбросить. Партизанский кузнец заменил трофейной, да так удачно, что ее не брали никакие дороги. Вот только по пути с разведки колесо подвело, забуксовало в болотце, броневик накренился набок. Филипп голоден, во рту — ни росинки. Каратели ходили в атаку, тайком крались в предрассветных сумерках, а сейчас засели по домам, изредка постреливают.
Видно, ждут пушку. Филипп чувствует — скоро конец. Он считался лучшим пулеметчиком в отряде, глаз был зоркий, рука твердая, поэтому и посылали в разведку на броневике.
— Что будем делать, товарищ шофер? — спрашивает Филипп, с тревогой всматриваясь в дорогу, на которой вот-вот заклубится пыль.
Шофер уже в возрасте, родом откуда-то из-под Москвы. Он в стеганом ватном костюме и коротких немецких сапогах. Филипп считал шофера «важной птицей», на равных с командиром отряда, и побаивался. Шофер тянул слова, «акал», что смешило Филиппа, но и вызывало уважение к москвичу. А шофер почему-то недружелюбно, подозрительно относился к пулеметчику. Вот и сейчас он косо взглянул снизу вверх из-под козырька фуражки: глаза чужие, непонятно, что в них, тонкие губы сжаты, нос заострен, и все лицо темное, кости да жилы. И Филипп не лучше выглядел: живот подвело, голова кружится от голода. Шофер на вопрос Филиппа ничего не сказал, только положил на колени трофейный браунинг: то ли от карателей собирался отстреливаться, то ли держал на взводе от недоверия к пулеметчику. Филипп нервно заерзал на сиденье. Выйти из броневика, сдаться? Шофер пустит пулю в спину, в этом не было сомнения. Да и каратели не помилуют, спросят за тех, которых Филипп уложил из пулемета — не меньше десятка. Один валялся рядом с броневиком, головой ткнулся в грязь, в руке зажата граната, по всему видно, офицер. За офицера повесят…
А умирать не хотелось. День стоял ясный, теплый, дорога уже подсохла, все деревья оделись зеленью, и в садах цвели яблони.
— Помрем, а не сдадимся, — вдруг сказал шофер. «Тебе что! Пожил свое, — подумал Филипп. — А я девки по-настоящему не целовал…»
— Фрицы все равно не помилуют, — продолжал шофер, точно читая мысли Филиппа. — Так умрем с честью за правое дело!
«А этот, что на дороге с гранатой, за правду или кривду пошел на пулемет?» — хотелось спросить Филиппу, но не успел: за околицей, на бугре, заклубилась пыль.
— Пушку везут! Что будем делать? — крикнул он в отчаянье. — Заводи мотор, товарищ шофер. Смотри, выберемся, дорога подсохла!
— Бесполезно.
— Как бесполезно?
— Бак прострелен, бензин вытек. Живо за пулемет!
— Что пулемет против пушки? Разнесут в прах! Ты свое пожил, товарищ шофер, а я чего видел? Нету моего терпения тут сидеть!
Шофер сжал в руке браунинг, и Филипп увидел, как побелели пальцы.
— Живо бери пулемет!
Филипп смотрел на браунинг, и по тому, как тонкие, костлявые пальцы, казалось, вдавливались в железо, понял, что шофер ни перед чем не остановится. И такая ненависть обуяла Филиппа против этого человека, что он изловчился и ударил ногой по руке с браунингом. Браунинг брякнул о железо. Филипп навалился на шофера, подмял под себя щуплое тело.
— Ты чего? — шофер мутными глазами смотрел на пулеметчика. — Чего задумал? Фрицам сдаться?
Зашевелились они, повеселели, приободрились каратели, градом застучали по броне пули.
Филипп отпустил шофера, сел рядом, обхватил голову руками, горько зарыдал. Ближе, ближе серое облако, уже несется по деревне, уже над ближними крышами курится пыль. Еще минута, еще секунда, и на площадь, гикая, высыпала… партизанская конница.
Шофер оттолкнул Филиппа, вышел из броневика, пошатываясь, даже браунинг забыл. «Выдаст», — подумал Филипп, холодея, и смотрел то на браунинг, то на спину шофера, который от слабости не мог идти и сел на крыло.
— Выходи! — повернулся он к мешкавшему Филиппу. — Ну?
Броневик окружили партизаны, подхватили под руки шофера, помогли вылезти Филиппу и повели в хату, а ему казалось — на расстрел. Двумя воловьими упряжками броневик вытащили из болотца. Приехали в отряд. Филипп ждал допроса, суда. Ночь прошла без сна. «Рассказал или умолчал?» — думал Филипп и курил сигарету за сигаретой из тех, что партизаны отобрали у пленных. Наступило утро, о Филиппе не вспоминали, он уже успокоился, и тут прибежал вестовой: Филиппа вызывал командир отряда.