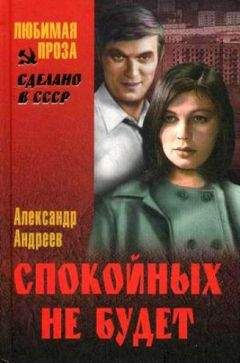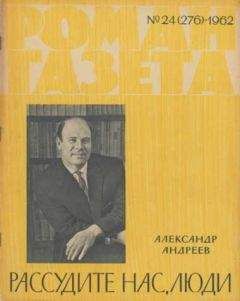В бригаду к нам прислали нового плотника, Филиппа Сорокина. Он перекочевал сюда с другой сибирской стройки. Это был невысокий, юркий человек, молодой, но, по всему видать, опытный в делах и в жизни. Нам всем показалось, что он чем-то смахивал на Серегу Климова. Только поумней, пожалуй, и похитрей. Первое время он вел себя скромно, был расторопным и ловким, бросался всем помогать, успевал везде вовремя, а советы подавал толковые, с прикидкой на будущее. Вместе с тем он зорко присматривался к каждому из нас, изучал, и его небольшие, глубоко запрятанные под брови глаза неспокойно бегали, взгляд, не задерживаясь, скользил, вызывая безотчетное брезгливое желание оглянуться. Тонкие, в ниточку, губы изгибались подковкой от балованной, блудливой улыбочки.
Вскоре Сорокин осмелел. На летучках, не соглашаясь с другими, подавал реплики отрывисто и дерзко. Потом стал и поучать. Однажды сказал мне как бы невзначай, мимоходом, с издевкой:
— Не тебе бы руководить бригадой-то.
Я удивился:
— А кому? Тебе?
— Не обязательно. Мало ли толковых мастеровых ребят. Эх, бригадир, и охота ж тебе... Сидел бы под надежной крышей: не пыльно, а денежно.
Я догадался, на что он намекал. И сказал как можно спокойнее:
— Мастерство приходит, как известно, в работе.
Сорокин поспешно согласился:
— Верно.
— А в остальное, что тебя не касается, я бы советовал не совать носа. Надеюсь, понял?
— Вполне.— Взгляд его скользнул мимо меня.— Извиняюсь.— И не отошел, а как-то ускользнул боком, скрывшись за срубом.
Вскоре я увидел, как он метнулся от угла, где сверлил древесину Аксенов. Леня, зло оскалившись, схватил увесистую чурку и запустил ею в Сорокина. Тот, увернувшись, испуганно выругался:
— Недоносок!
— Это про кого ты? — спросил я.
Сорокин вздрогнул. Думал, никто не заметил случившегося, поспешил ответить:
— Так. А что?..
— Ты, Филя, парнишку этого не трогай.
Губы Сорокина изогнулись подковой:
— Генеральского сыночка не даешь в обиду?
— Не даю.
— Правильно делаешь,— проворчал Сорокин, поспешно отходя и поглядывая на меня с опаской,— Рыбак рыбака видит издалека... Генеральский зятек.
Бригада Трифона Будорагина работала тут же, на берегу, неподалеку от нас. Перед обедом Трифон пришел к нам, и я рассказал ему о Сорокине. Трифон сразу помрачнел, рыжие глаза — пятна масла на воде — заколыхались, темнея, тяжелые руки согнулись в локтях.
— Серега Климов разболтал все, трепач. Видел, снюхались уже, дружки. Скрутить бы их одной веревкой, камень подвесить потяжелее да в реку, на дно...— Помолчав немного, он добавил: — Такие люди — вроде раковой опухоли на здоровом теле. Не успеешь оглянуться — съест все живое.
Столовую на берегу еще не поставили, и рабочие на грузовиках ездили обедать в поселок. Для нас Катя Проталина по привычке привозила обед прямо сюда, к срубам. Дни стояли теплые и веселые — от солнца, от запаха сосновых бревен, от шума воды и стука топоров. От этого и обед казался вкуснее.
Катя накормила бригаду, вымыла в реке посуду. Ребята помогли ей убрать кухонную утварь в машину. Попрощавшись с нами, она направилась к грузовику.
Сорокин и Серега Климов стояли неподалеку от нас. Сорокин провожал Катю взглядом. Я всяческие встречал взгляды: и восторженные, когда женщина, проходя мимо, как бы озаряет человека необыкновенным светом и свет этот долго согревает душу, рождает мечты; видел взгляды скучающих знатоков, циничные, с прищуром, этакие «сквозные», что таят в себе блудливую мысль: «А какая она в любви?»; и откровенно похотливые взгляды, от которых женщины бегут сломя голову...
Взгляд Сорокина был мерзким, он вызывал отвращение. Громко, без стеснения Сорокин сказал, причмокнув:
— Какая девка пропадает! Теряются ребята. Зря. Пора ее прибрать к рукам.— Затем последовали выражения, от которых стало невыносимо стыдно и тоскливо даже нам, мужчинам.
Катя резко обернулась, точно ее ударили по лицу. Она задохнулась, сдерживая в груди крик, глаза расширились, а рука невольно заслонила рот. С минуту стояла, потерянная, не зная, что делать, не понимая, за что ее так обидели. Потом взялась рукой за край борта, чтобы влезть в машину. Я задержал ее.
— Подойди сюда, Катя.— Я повернулся к Сорокину.— Катя — наш товарищ, комсомолка, мы все ее любим. А ты ее оскорбил ни за что. Проси прощения.
Сорокин искренне удивился. Должно быть, ему нравилось ошарашить женщину грубым словом, вызвать на ее щеках краску стыда, растерянность. Видимо, ему все сходило с рук.
— Вот еще новости! Подумаешь, принцесса — прощения у нее проси... Проживет и так. — Он отвернулся.
Нас окружили ребята. Катя промолвила, смущаясь:
— Не надо, Алеша, пусть идет...
— Помолчи,— сказал я и, тронув Сорокина за плечо, повторил: — Проси прощения.
— Оставь, пожалуйста! — возмущенно вскрикнул Сорокин.— Ты бригадир? Вот и следи за работой. Руководи. Остальное тебя не касается.
— Стой, не уходи,— сказал я.— Если ты этого не сделаешь, тебе будет плохо, предупреждаю.
— Не грози. Видали мы таких.
— Таких не видел.
Сорокин беспокойно оглянулся, в глаза бросился топор, шагнул к нему. Я остановил его. Казалось, еще секунда — и я собью его с ног, сброшу в реку. Моя правая рука наливалась тяжестью. Вдруг я почувствовал, как кто-то сжал ее. Это был Леня Аксенов.
— Не связывайтесь, бригадир, не стоит.
Когда рассвирепевший Трифон Будорагин встал перед Сорокиным, тому стало ясно: дело принимает серьезный оборот.
— Проси прощения, тебе говорят! — Возможно, Трифон представил на месте Кати свою Анку и обиду ее принял как свою. Он схватил Сорокина за телогрейку, приподнял, страшно оскалившись.— Ешь, гад, землю! — И поставил его на колени.
— Извиняюсь,— пробормотал Сорокин.— Я очень извиняюсь...— Боком отполз в сторону, растолкав столпившихся ребят.
Некоторое время мы стояли молча. Было тихо. Только шумела, плескалась река у ног, играя звонкими солнечными бликами, точно смеялась...
ЖЕНЯ. Вечером в мою комнату вошел папа. Один, хотя мама была дома. Он не часто радовал меня своими посещениями.
— Папа! — Я повисла у него на шее. В то же время я догадывалась, что визит его не случаен: предстояла серьезная беседа.
Папа был без кителя, в белоснежной рубашке, домашний, близкий, немного усталый. Оглядывая мое жилище, он чуть застенчиво улыбался, точно чувствовал себя здесь гостем.
— Посидим, дочка,— сказал он.
Я села напротив него на маленький стульчик, положила на колени руки.
— Я слышал, ты уезжаешь? В Сибирь? Это правда?
— Правда, папа. Ты пришел отговаривать меня?
Он ответил поспешно, чуть привстав:
— Ни в коем случае! Я только хочу знать цель твоей поездки.
— Цель проста, папа,— ответила я.— Еду не одна. С ребятами. Из нашего института. В отряде больше трехсот человек. И я среди них. Такие поездки бывают каждый год...
— Я знаю об этом,— сказал папа.— И считаю это творческим и, если хочешь, революционным достижением комсомола последних лет. И тебе, Женя, отстраняться от этого не следует. В таких начинаниях отставать от других, от товарищей — значит отставать от жизни, от времени. Обязательно поезжай. Новая обстановка, иные условия жизни, другие люди, сама работа совершенствуют человека быстрее и лучше, чем лекции умнейших профессоров.— Папа помолчал, зорко, испытующе вглядываясь в меня, потом спросил: — Скажи, только честно, если бы отряд ваш послали не на Ангару, а в другое место, скажем, в Казахстан или на Алтай, ты поехала бы?
— Да, поехала бы,— ответила я.
Папа, улыбнувшись, одобрительно кивнул седой головой.
— В данном случае так уж совпало, что ты едешь туда, где находится Алешка, твой супруг, как ты любишь выражаться...
— Да, так совпало.
— Что ж, отлично! Встретитесь, выясните наконец ваши отношения... Он тебе пишет?
— Нет.
— Ни одного письма? — В его вопросах слышались удивление и упрек.
— Ни одного.— Я почувствовала, что краснею.
— Чем объяснить этот демонстративный отказ от своих супружеских обязанностей? — Папа, кажется, чуть издевался над нами, нарочно упоминая слова «супруг», «супружеские»: знал, что я их не выношу.
— Не знаю,— сказала я тихо.— Должно быть, считает меня виноватой... предательницей.
Папа встал и заходил по комнате.
— Пускай он как хочет называет тебя, только не предательницей. Не смеет. У меня не было и не будет дочери-изменницы. Так ему и скажи. Слишком много на себя берет. Сам не больно хорош: уехал, не сказав жене ни единого слова. Я ведь все знаю.
— Успокойся, папа,— сказала я.— Сядь, пожалуйста. Может быть, он меня и не называет так. Это я сама себя так называю.
— И ты не смеешь себя так называть. Это неправда. То, что у тебя характер... этакий... с отклонениями,— верно, согласен. Мамин характер. Тут уж ничего не поделаешь. Стоит только открыть пробку, как на волю вырывается буйный джинн...