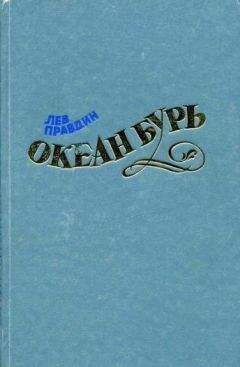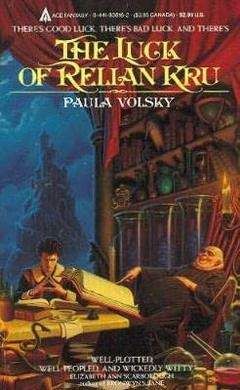А Ваську кто любит? Кому он дорог? Вот сидит, дожидается какого-то поворота своей мачехи-жизни.
Васька взял полосатую милицейскую палочку, и ему показалось, что она еще немножко теплая от пухлых ладоней Павлика. Это ребячье, домашнее тепло окончательно добило Ваську. Вдруг вспомнилось все, что пришлось пережить за последние дни, когда он только что, еще несмело, начал понимать, что он не последний в школе человек. Какое богатство держал в руках! И все сгорело сразу, в одну минуту.
Черноусый объяснил: «Этот по делу». Вот и все, что осталось. Дело. Васька — вор! Ох, и тяжело же бывает человеку в детской комнате, среди игрушек, за решеткой.
А Павлушке и милицейская палочка — игрушка, и милиционеры — добрые друзья. Хорошо жить на свете честному человеку!
До того Васька задумался-загоревал, что не заметил Василия Андреевича.
— Отогрелся? — спросил он.
— Ага… — Васька судорожно глотнул воздух и опустил голову, чтобы скрыть непрошеную слезу.
Но Василий Андреевич и сам не захотел замечать Васькиной слабинки, он даже отвернулся, чтобы подобрать разбросанные Павликом игрушки. Будто у старшего лейтенанта только и забот, что подбирать игрушки.
А Ваське нечем даже слезы утереть, они капают, себе да капают прямо на ковер. Пошарил по карманам, нашел варежки, которые Володя сунул ему в последнюю минуту, и еще больше расстроился. И на слезы обозлился.
— Совсем отогрелся? — спросил, наконец, Василий Андреевич.
— Со-совсем, — озлобился Васька, не в силах справиться с противной дрожью во всем теле.
— Да ты что же это?
— Не видите разве.
— Все я, брат, вижу.
— Ну и нечего тут.
— Я тебя, тезка, понимаю, ты не думай.
— А чего мне думать-то.
— Думать всегда не мешает.
— Вам хорошо, вы за решеткой не сидели.
— А ты сидел?
— А я сижу.
— Это еще не та решетка, за которой сидят. Это, учти, детская комната.
— А решетка?
— Решетка нам по наследству досталась. Придет время — снимем.
Засовывая варежки в карман, Васька спросил:
— В колонии тоже, скажете, решеток нет?
— В какой колонии?
— Будто не знаете.
— Я-то знаю, а тебе зачем знать?
— Куда же меня теперь?
— Вот я и сам думаю: куда же тебя теперь? — вздохнул Василий Андреевич. Он сел на стул против Васьки и, пристально глядя на него, спросил: — Куда тебя?
Васька растерялся. Еще ни один человек на свете никогда не раздумывал, куда бы его пристроить.
— А мне это все едино.
— Дома у тебя плохо… — продолжал Василий Андреевич.
— Сами знаете.
— Не все я еще знаю, вот беда.
Оба они задумались. Василий Андреевич безнадежно спросил:
— А в школе у тебя как?
— В школе! — Васька просиял и неожиданно для себя и для своего собеседника с откровенной гордостью проговорил: — Хорошо у меня в школе.
На одно только мгновение блеснула улыбка на измученном Васькином лице. И все его веснушки, и покрасневший от слез носик-репка, и глаза, и следы слез на щеках — все вдруг расцвело и заликовало.
И этого мгновения было довольно, чтобы заметить, как вдруг открылось в человеке все, что в нем есть самого лучшего.
Спрашивая о школе, по правде говоря, Василий Андреевич и не надеялся услыхать ничего сколько-нибудь утешительного. Ведь даже не зная Ваську, по одному только его виду каждый бы определил: да, мальчик этот не из первых учеников, школа для него тяжелая обязанность, и ходит он в школу только потому, что его посылает отец, а отец посылает, потому что нельзя не посылать. Попробуй-ка не пошли — неприятностей не оберешься, а их у базарного завсегдатая и без того хватает.
Васькино признание очень удивило Василия Андреевича. Он начал было расспрашивать, но Васька не мастер был объяснять тонкости своего душевного состояния, тем более, что и увлечение театром, и связанные с этим увлечением успехи свалились на его рыжую голову как снег с крыши.
Поэтому допрос несколько затянулся, пока выяснилось, что школа для Васьки с некоторых пор перестала быть обузой. Скорее наоборот, именно в школе нашлось для Васьки живое дело.
— А теперь я что-то тебя совсем не понимаю, — сказал Василий Андреевич.
— Все, по-моему, понятно.
— Это по-твоему.
— А по-вашему?
— А по-моему, заврался ты окончательно.
— Я вам всю чистую правду…
— Где же тут правда: хочешь стать актером, а таскаешь какие-то запасные части. Зачем они тебе? Вот если бы ты техникой увлекался, тогда бы я тебе поверил… Ну, чего притих? Наверное, говорить нечего.
— А если мне от вас доверия нет.
— Доверие, тезка, заслужить надо.
Спрятав нос в свой лохматый воротник, Васька тихо сказал:
— Убьет он меня, вот что.
— Отец?
— Он. Убьет.
— За что? Ты же еще ничего не сказал.
— Потому и не сказал.
— Отца прикрываешь? А я и без тебя все знаю. Хочешь, скажу? У вас там целая компания работала: одни воровали, другие продавали, а третьи прикрывали. Верно? Я вот не знаю только, чем ты занимался.
— Ничего я не делал.
— Правильно. Ты воров прикрывал. А это, знаешь, самое последнее дело. Молчишь. Тебе отец велел всю вину на себя принять, с маленького спросу меньше. Им — тюрьма, а тебе ничего не будет. Вот они тобой и прикрылись. Так ведь дело-то было?
— Так, — с отчаянием признался Васька. — Все так и было. А теперь мне что?
— А теперь иди домой и молчи. Спросят, говори, что никого не выдал. И никого не бойся.
Входная дверь скрипнула и захлопнулась. В дядиной комнате все притихли, прислушиваясь, но никто не вошел, ничьи шаги не прозвучали в сенях.
— Боитесь, — злобно прошептала тетка.
Муза тихонько заныла, заскулила, но тетка замахала на нее рукой, и она притихла.
Володя отодвинулся от двери. Хотя, как всем известно, человек он был не робкий, однако сейчас бы не решился один выйти в сени — неизвестно еще, кто там притаился в темноте и для чего притаился.
— Ага. А говоришь — нет бога, — прошептала Тая. — А сам боишься.
— Дура. Я жуликов боюсь. А вовсе не вашего бога.
Снова громко хлопнула входная дверь, но на этот раз послышались торопливые тяжелые шаги, дверь распахнулась, и в комнату, трудно и часто сопя, вбежал дядя. Он так резво вбежал, что всем показалось, будто он с разгона не смог остановиться, и дал еще два круга по комнате. В самом деле, он бегал по комнате, осматривая вещи. Володе показалось, что он даже обнюхивает их, как большая собака. После такого беглого осмотра он повалился на стул и снял шапку.
— Что нашли? — хриплым шепотом спросил он.
— Да чего у нас-то искать? — ответила тетка. — Ничего и не нашли. Вот у соседа…
— А собака где? — перебил ее дядя.
Тая сказала:
— Я ее к Володе унесла. Сейчас привесу.
— Не надо. Пусть там постоит. Ты не возражаешь? — спросил он у Володи.
— А мне что? Пусть стоит, — согласился Володя.
Разматывая шарф, дядя посоветовал Музе:
— Шла бы домой. Капитон ждет.
— Пришел? — засуетилась Муза.
— Ступай, говорю, ступай, дожидается.
Заохав, Муза убежала домой.
— Намаялся я на сегодняшний день, — прогудел дядя и спросил у Володи: — Ваську не видал?
— В милицию увели.
— Убьет его Капитон.
— Ах, тошно мае, — прошептала Тая, прикладывая ладони к щекам.
Володя спросил:
— Как это убьет?
Не отвечая, дядя; сказал:
— Дураки. Воровать, берутся, а сами не умеют. Ну, ступай, Володька, домой.
В столовой ярко светила лампочка над столом. На сундуке стояла белая собака и удивленно посматривала на Володю. Он вздохнул.
— Эх ты, собака!
Плохо, когда человеку в одиночку приходится переживать такие невероятные неприятности. Плохо, и как-то труднее делается жизнь и без того сложная и во многом непонятная.
— Эх ты, собака, — повторил, он вслух. — Была бы ты живая, так хотя бы полаяла, и то веселее.
И вдруг раздался тяжкий, всхлипывающий вздох. Володе показалось, что это собака так вздохнула и даже издала короткий скулеж.
Он оглянулся. Собака по-прежнему смотрела на него пустыми черными глазами, недоуменно подняв бровь. Но Володе показалось, что концы желтого банта на собачьей шее легонько шевельнулись.
— Ты что? — спросил он.
Собака снова всхлипнула и вдруг человеческим голосом проговорила:
— Вовка, это я.
Володя вздрогнул и обернулся. На пороге спальни стоял Васька в своей мохнатой, облезлой куртке, растрепанный, опухший, от слез и, видать, очень обозленный.
— Это я, Вовка, — повторил он, судорожно вздыхая. — Я к тебе ночевать пришел. Ты меня не выдавай.