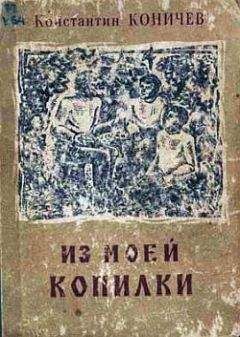Мы стали вспоминать о давнем прошлом здешних мест и о тех людях, которые остались в памяти и поныне.
Афоня начал перечислять забытых земляков-соседей, припоминая и добавляя каждый раз какую-нибудь деталь к характеристике:
– Алеха Турка, этот был забавный чудак. Бывало, попы-монахи придут с иконой в засуху дождя у бога просить. Устроят молебен, Турка нарочно появится в парусиновом плате и зонт над собой растопырит. Все за молебном над ним смеются, поп нарекание выговаривает, а Турка, будто всерьез, без усмешки говорит: «Боюсь, как бы за молебном дождем не залило». Икона поставлена на стол посреди деревни. Турка, не снимая с головы шапки, лезет на четвереньках под стол, вроде под благословение; поп опять ворчит: «Ты что, как пес, подлезаешь под святую икону, стань по-настоящему на колени да скидывай шапку!» А Турка ему из-под стола в ответ: «Пес тоже создание божие, а святое благословение и скрозь шапку пройдет. Не беспокойся, батюшка». И так весь молебен, бывало, в спектакль превратит… А не помнишь ли, вон, на том месте, где пень от подсохшей березы стоит, была изба покойного Миши Петуха. Жили вдвоем Миша да Агниша. Частенько выпивал Петух. Сапоги продаст, идет пьяный домой, напевает:
Ставь, Агниша, самоварец
Да без угольича,
Неужель не поцелуешь,
Мишу Пимановича?..
Другой песни и не знал. Вся отрада у Петуха – медный самовар да и тот, бывало, сельский староста придет и за недоимки оброка унесет. Всяко жилось при старом режиме… Насчет песен горазды были братаны Какоуревские Петруха да Сашка. Выпьют и затянут:
Зачем не родился я графом,
Зачем мне судьбой не дано
Сидеть перед теплым камином
И пить дорогое вино…
Петро в Пучкасах утонул, а Сашке за семьдесят перевалило. Старую жену недавно покинул, к молодухе-вдовушке подкатился, и живут…
Я вспомнил Сашку. Кавалером двух «Георгиев» с германской войны пришел. Женился на первейшей красавице. Все ее запросто не по имени, а «царевной» за красоту и стройность называли.
– И еще было у них два брата: Сергей, тот крупным работником стал, – продолжал Афоня, – а четвертого брата, Алексея, не помнишь ли за что «сомустителем» кликали по-уличному?
– Нет, не помню.
– А за то, что он умел драки заводить. Сначала склоку организует, а там, глядишь, и драка. Сам не дрался. Со стороны поджучивал да посмеивался. От двух войн отвертелся, не попал в солдаты. В гражданскую, после революции, окот для казны заготовлял. Дико разбогател. Но деньги те были – миллионные бумажки, на оклейку стен пошли.
– А теперь он где?
– Канул в тар-тарары, – неопределенно ответил Афоня, поглядывая на мой дорожный рюкзак, из которого раздражительно торчало горлышко фляги. Уловив его не совсем хищный, но вполне оправдывающий нашу встречу взгляд, я предложил:
– Есть у меня остаточек доброго вина, давай, Афанасий, выпьем за упокой тех, кого нет, и за здравие живущих.
– Это можно.
Я наполнил стопку, поднес Афоне.
– За совхозное крестьянство, чтоб оно росло и процветало, – нажимая на «о», проговорил мой собеседник и без передыха опорожнил стопку. – Крепенькое, не противное, вроде бы я такого и не пивал. А в общем, не расчухал…
– Тогда давай вторую…
– Да удобно ли? Сам-то…
– Я уже успел.
– Погоди, вон «царевна» идет с корзиной. Не иначе, у нее есть закусь какая-нибудь.
– «Царевна», та самая?
– Ну да, но теперь она больше на бабу-ягу смахивает. Годы берут свое, да и супруг, разведясь, на старости наглупил. Хоть никуда глаз не кажи…
Я посмотрел на женщину, подходившую прямо к нам по узкой тропинке. Это была согнутая жизнью и судьбой старуха, с длинным острым носом, с редкими седыми волосами. За спиной плетеная корешковая корзина, покрытая выцветшим головным платком… Шепеляво выговаривая слова, она вымолвила:
– Здрасьте, мужички хорошие. Сидят двое в полюшке на камешке да выпивают. Магарыч, поди-ка, литки пьете? Чем поменялись-то, Афоня-Голубые кони?
– Поменялись мнениями так на так, – ответил Афоня. Я и не подозревал, что за ним до сих пор сохранилось уличное прозвище Афоня-Голубые кони.
– Поройся, «царевна», в корзине, нет ли нам закусочки, – попросил Афоня.
– Да ради бога, возьмите хоть лучку, хоть чесночку или помидорчик. Ходила в село поторговать овощем со своего участка, да зазря, на трешник только и продала, остальное тащу назад. Попутно зашла в Ивановскую деревню, два часа телевизор глядела.
– Чего опять? – спросил Афоня, держа одной рукой стопку, другой ухватив пучок зеленого луку.
– Детские передачи. Господи, до чего дошли! Прямо по воздуху всякие видения показывают, и ничего им не помеха: ни темная ночь, ни ветер, ни дождь. Чудо из чудес, и никому теперь не диво. А раньше бы от такого чуда я самая первая с ума сошла… Да берите больше, не жаль мне этой снеди. Не много грядок, а наросло всякого добра и себе, и на продажу…
Афоня выпил вторую. Свежий зеленый лук захрустел у него на зубах.
– Спасибо, Костенькин Иванович.
– Может, и третью выпьешь?
– Ни в коем разе. На то эта посудинка и стопкой называется, чтоб знать, где надо оказать «стоп». Две выпил – и стоп. Иначе до своей избы не добреду, усну на дороге. Походишь по деревням – забредай ко мне. Я для тебя петуха зарежу. Не обходи… – обратясь к старухе-«царевне», спросил:
– Алексашка не поумнел? Не вернулся?
– И не спрашивай, – ответила старуха, – лишился разума. Дурак по самые уши.
– Да кто из вас виноват-то?
– Пушкин…
– Не шути.
– Да как же? Он первым сказал: «…любви все возрасты покорны». Смотался мой потаскун. Уехала бы я куда, да старость подкашивает. Не двинешься. По весне видела его в селе однажды. Свернула с его глаз в сторонку. Пьяненький шел, балагурил:
Зачем не родился я графом,
Зачем мне судьбой не дано…
Тьфу, дуропляс! Графом… хватит того, что человеком родился, а дураком помрет…
Закинула «царевна» корзину за спину и пошла, не узнав и не спросив у Афони про меня, кто с ним распивает литки.
Стрекотала конная сенокосилка. На большой высоте в лазурном небе пронесся со скоростью звука реактивный самолет, оставив за собою две длинных белых борозды.
Охотничья водка разморила Афоню. Глаза у него закрывались сами собой. Он широко зевнул, сделал несколько резких движений. Я поглядел в сторону уходившей от нас женщины, вспоминал, какой она была красавицей, да и супруг ей был под стать: с усами, как у Козьмы Крючкова, всегда чисто бритый, в разговорах нарочито не окал по-вологодски, а вместо «опять» подчеркнуто выговаривал «абратно».
– Придется малость помедлить, – сказал Афоня, непритворно зевая, – нельзя во хмельку попасть бригадирше на глаза. Не залечь ли мне в кусточки? Или скоро выветрится?
– Пройдет в два счета, – успокоил я его, – охотничья ненадолго забориста, и запаха от нее нет такого, как от череповецкого «сучка». Эта шатает, а с ног не валит.
– Ну и то хорошо, – согласился Афоня и добавил, кивнув в сторону ушедшей женщины: – Она тебе, наверно, напомнила, а ты и забыл совсем мое прозвище – Афоня-Голубые кони.
– Конечно, забыл. Живя в разных городах, я за сорок лет ни разу не вспомнил об этом, и даже такого слова, как литки, не приходилось мне ни употреблять, ни слышать…
– Голубые кони и литки одно с другим связано. Хочешь, расскажу одну такую со мной бывальщинку…
– Рад послушать, но сначала допей, что на донышке булькает.
Афоня отказался пить:
– Годы мои не те, хватит двух стопочек, по одной на обе ноги, чтобы не шибко кособочило в походке.
74. ЛИТКИ
(Самодеятельная инсценировка)
…АФОНЯ-Голубые кони с холодного серого камня валуна пересел на луговину, прилег набок и, не торопясь со мной расставаться, начал рассказывать:
– Была война, не эта, а та, с Вильгельмом, потом гражданская, потом разруха. Кончилось все это, вернулись люди домой, у всех денег миллионы, а купить нечего. У кого есть хлеб – прячут, у кого нет – едят что попало: колоб, мякину, толченую овсянку, резаную солому. Прошло два-три года, крестьянство снова на ноги встало. Хлеб появился, сахар, ситец – тоже. Только цены расходились: хлеб шел дешево, а ситец и всякая мануфактура – дорого. Все обносились. Материи не хватало. А люди на земле работали отчаянно. Урожаи были добрые. Вот в ту пору я и начал помаленьку промышлять меной лошадьми. Выгоды вроде бы никакой, а так, страстишка появилась. Конечно, каждый раз литки, иначе говоря – магарыч, выпивка. Без выпивки нет мены. Сначала самогонкой пробавлялись. Потом появилась водочка, отличная, как при Николае, по старым рецептам. Очень увлекались по праздникам, по православным и революционным. Пили, наверстывали упущенное, ведь с четырнадцатого года до самого начала двадцать пятого запаха водочного не было, самогонка не в счет, вкус не тот. Выпьешь, бывало, сядешь в сани, кнут-вожжи в руки и несешься во весь дух, как Илья пророк, комья из-под копыт летят, да еще спьяна-то и песенку горланишь: