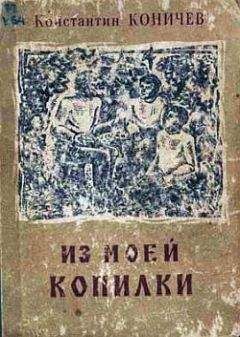Чаще всего добрая память писателя обращалась ко времени его детства и юности. Он не раз вспоминал это время с какой-то тихой грустью, даже тогда, когда рассказывал о людях доброй души – Хлавьяныче, Афоне-Голубые кони, Митрии Трунове, Иване Герасимове, Антошке Печенике… Вот и теперь они – в копилку его памяти как живые свидетели неиссякаемой народной мудрости и чистейшей, ничем не замутненной народной доброты. Разве мог забыть дядя Костя о великом труженике и воине Хлавьяныче, с которым заработал нелегким трудом землепашца свой первый гривенник?
Прошлое навязчиво тревожило память писателя, он все чаще обращался к тому миру, который открылся ему в детстве с околицы родной безвестной и теперь исчезнувшей с лица земли деревеньки. Стояла она на взгорье, окнами на большое торговое село Устье. За сосняком уходило в туманный горизонт на многие версты раздольно вытянувшееся знаменитое Кубенское озеро. Шли по нему пароходы и барки, отражались в его глади кирпичные стены древнейшего Спасо-Каменного монастыря. Ватагой бегали на Устье деревенские малыши, провожали с пристани пароходы на Вологду, казавшуюся им призраком за тридевять земель в тридевятом царстве.
Из окна деревенской избы всматривался в окружающий мир будущий писатель, и он открывался ему с каждым днем все шире и значительней. И подпаском был, и сапоги тачал, и пахал, и сеял, и лес рубил, и на пожнях косил, и соль выпаривал, и водоливом ходил по Мариинке… На исходе жизни у выходящего на Дворцовую набережную окна своей рабочей комнаты писатель не раз вспоминал слова своих друзей: «Вишь, куда занесло вологодского мужика» и не без справедливой и законной гордости размышлял:
«А почему бы и не „занести“. Разве не мои предки, уроженцы вологодские, вместе, с другими россиянами отвоевали под командой Петра Великого эти, когда-то шведами захваченные, у нас места? Разве не мои предки, крепостные мужики, строили крепость? Разве не они начинали возводить „на зло надменному соседу“ город-красу и гордость державы Российской? Разве не здесь от тяжких работ они сложили свои кости в неизвестных могилах?»
И снова с законной гордостью писатель думает о своем времени, когда ему, потомку многострадальных предков, суждено было поведать о русских умельцах, деятелях искусства – Федоте Шубине и Андрее Воронихине – своим разумом и золотыми руками украшали этот город.
Отсюда с Дворцовой набережной писатель не раз вслушивался в бой курантов на Петропавловке, отсчитывавших безвозвратно ушедшее время, радовался пароходным гудкам на труженице Неве. А под окнами, на набережной, по каменным плитам которой когда-то хаживал сам Пушкин, раздавались в белые ночи голоса и песни школьников-выпускников и студентов – людей будущего, которым так завидовал не осуществивший многих своих замыслов писатель.
Кто из нас не думал тревожно, а иной раз горячо и бесплодно не спорил на извечно живучую тему отцов и детей? Немало мыслей вокруг нее высказано и автором этой «Копилки». Бывая на родине, он всякий раз за долг, свой почитал заглянуть на могилы своих предков и родителей. Видели его земляки с обнаженной головой у стены обосновавшейся на кладбище общественной бани. И только ли сыновняя вина в том, что над прахом его отичей и дедичей – поленница дров?
Завершив изнурительно кропотливую работу над повестью «Петр Первый на Севере», Константин Иванович в перерывах между болезнью трудился над этюдами и рассказами своей «Копилки», которой суждено было стать последней книгой писателя. Многие месяцы прошли в «Свердловской больнице». Шли от него и тревожные письма и обнадеживающие вести. Он гнал прочь старуху-смерть, мечтал вернуться на Дворцовую набережную к своему, может быть, последнему окну. Думал и на родине побывать и очень тосковал о родной земле. Прикоснись он к ней, казалось, и снова вернутся силы. «Я со своей болезнью, – писал он, – разменял второй год лежания. Думаю о своей былой лености, о малости общения с природой, о многом невысказанном и недосказанном… С больничной койки никак не могу три месяца уже сорваться… Очень хочу побыть в Вологде и около. Два месяца бы!»
Мечте этой не суждено было сбыться. Но в могилу писателя легла и горсть родной вологодской земли. Ее привезли из Устье-Кубенского земляки.
У дяди Кости была завидная и – это уж точно – добрая память. Она – и в его последней книге, к которой я пишу это послесловие с грустью и тоской по живому человеку. Пусть и о нем, умевшем ценить и любить людей, живет память добрая и светлая.
Виктор Гура.
Мутцу-Хито – японский император того времени.