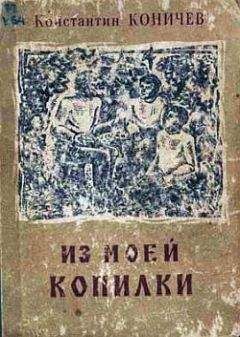А потом бегали к пристани, провожали пароход на Вологду, казавшуюся нам призраком за тридевять земель в тридевятом царстве.
Шли годы… И чем только я не занимался! Сапоги шил, лес рубил, веревки вил, изгороди городил, пахал и сеял, молотил и веял, соль выпаривал, на пожнях косил, на баржах водоливом ходил, подпаском, вице-пастухом бывал, Псалтырь над покойниками читал, постное масло на маслобойке давил, коровье масло на сепараторе сбивал. Взрослым тоже учился и того добился, что люди стали меня называть писателем…
И верится и не верится. Немало времени прошло с той поры, как впервые из окна деревенской избы я начинал всматриваться в мир, а потом и прикасаться к нему руками и рассудком… И вот –
Окно второе
ПОЛВЕКА и даже больше – срок немалый. Можно за это время чему-то научиться. Кое-что сделать. Можно было сделать больше, лучше – жалею, не удалось.
Не будем бога гневить за то, что после нас останется. Благодушествовать нет оснований, самовосторгаться – тоже. Время приближается к закату. Я сижу у второго и последнего своего окна…
Что я вижу? Мое жилье на Дворцовой набережной Ленинграда. Напротив, за Невой, – Петропавловская крепость. Справа и слева мосты. Одетые в гранит берега. С домом, где я живу, соседствуют дворцы: один брата царя, Михаила, отрекшегося от престола, другой – дяди царя…
Научные институты занимают эти бывшие чертоги их императорского высочества. Мне мои друзья иногда говорят:
– Вишь, куда занесло вологодского мужика!
А почему бы и не «занести»? Разве не мои предки, уроженцы вологодские, вместе с другими россиянами отвоевали под командой Петра Великого эти, когда-то шведами захваченные у нас места? Разве не мои предки, крепостные мужики, строили крепость? Разве не они начинали возводить «на зло надменному соседу» город-красу и гордость державы Российской? Разве не здесь от тяжких работ они сложили свои кости в неизвестных могилах?
Да, они работали не для себя, работали на власть и капитал имущих, но история работала на нас.
И настало время, когда я, потомок своих многострадальных предков, поведал читателям о них, о лучших русских умельцах, деятелях искусства – о Федоте Шубине и Андрее Воронихине, приложивших свои золотые руки и разум к строительству и украшению этого города. Со всяких точек зрения закономерно мое пребывание здесь…
В летнюю белую ночь не спится.
Я сажусь на подоконник. Часы-куранты на Петропавловке отбивают положенное время, ушедшее безвозвратно.
Под окном, где по каменным плитам расхаживал сам Пушкин, в эту пору с гитарами и песнями гуляют студенты и старшеклассники-выпускники. Одним предстоит начало работы, другим – переход в студенты. Им, людям будущего, ближайшего и отдаленного, можно позавидовать.
Они увидят то, чего мы не видели. Они завершат то, что нами недоделано, ибо одной и даже нескольких жизней человеческих бывает недостаточно для полного свершения замыслов.
Над Невой раскрываются чудовищные пасти мостов. Проходят суда с Волго-Балта и Беломорья.
Нева работает. Идут по Неве на Север, на Урал, в Поволжье корабли с оборудованием для новостроек…
На шпиле колокольни ангел-флюгер показывает направление ветра. С крепостной стены в двенадцать часов отбивает время пушка.
Метеорами и ракетами речные суда снуют по Неве.
На мостах оживление. Все идет своим чередом.
Имя Константина Ивановича Коничева услышал я впервые вскоре после войны. Молодые литераторы говорили о нем с уважением и любовью:
– Уж он-то знает наш Север. Дядя Костя расскажет тебе обо всем да еще с шуткой-прибауткой. И в самые заповедные места свезет, и за рыжиками, и на рыбалку, и знающих людей укажет!
И вот он стоит передо мною, жмет руку, задерживает ее и откровенно рассматривает меня острыми, с хитринкой глазами, расспрашивает, выпытывает то, что не сразу и не всякому расскажешь, и радуется, когда узнает, что пути наши почти пересекались в дни тяжких военных испытаний. И сам он «раскрывался» не сразу, хотя с людьми разной среды сходился легко и просто, но свое сокровенное прятал глубоко и не с каждым делился заветными думами. В своих почти детских проказах и выдумках был воистину неистощим. Остроумными прибаутками, бывальщинами и небылями начинен был этот человек, они сыпались из него и к случаю, и просто так – одна за другой. Иные из них, кажется, он только что, при тебе, сочинил и выдает за правду чистейшей пробы.
Густо окая, нараспев, рассказывал он о своей «вотчине – Вологодчине». То лирически мягко, с роздумью, вспоминал о батрацкой жизни на Устье-Кубене, о друзьях-писателях двадцатых годов, то сыпал частушками, рифмованными присказками, которых у него в запасе «под завязку два мешка», то хитроумно, с перчинкой плел рассказ о похождениях в коллективизацию какого-нибудь вологодского деда Щукаря.
Подвижный и энергичный, как говорят, легкий на подъем, полный жажды все знать, особенно о родном Севере – таким входил дядя Костя в жизнь тех, с кем потом общался и был связан узами дружбы многие годы. Совершенно неожиданно он мог появиться в вологодских или архангельских краях только потому, что кто-то из друзей сообщал: в какой-то лесной деревушке у какой-то ветхой старухи видели старинную рукописную книгу. И вот дядя Костя развертывает свитки, увлеченно рассказывает, восхищается древнерусскими лубками, делится новыми замыслами.
Совсем недавно, кажется, была от него весточка из Ленинграда, а через несколько дней является и сам он, полный впечатлений от встречи с череповецкими металлургами. «По пути» завернул еще и в Ферапонтово, чтобы поглядеть на фрески Дионисия. А назавтра уже беседует со своими земляками, читает им свои новые страницы, советуется, расспрашивает что-то. А через некоторое время уже идут от него пестрые открытки откуда-нибудь из Дагомеи или из Египта, из Греции или Сирии, из Парижа или Праги. И опять ждет своего хозяина тихая квартирка на Дворцовой набережной в Ленинграде.
На столе писателя – величественная фигура Петра Первого работы М. Антокольского, модель памятника в Архангельске, кипы писем от друзей, читателей, собратьев по перу; над столом – вологодские пейзажи; в шкафах – книги редкие, рукописные сборники, собрания фольклористов и этнографов. И все это – о Севере, о прошлом и настоящем родного писателю края, с которым связана вся жизнь, почти каждая строчка в его писаниях.
А писал дядя Костя много, иногда даже спешил, но всегда был верен правде жизни и неизменно обращался в своем творчестве к судьбе родной ему северной деревни. Его «Деревенская повесть» со временем выросла в большой бытовой роман о нищенской доле крестьянина, жившего «к северу от Вологды». Судьбы северного села предстают в пережитых ситуациях и конкретных человеческих судьбах. В образе бедняцкого сына Терентия Чеботарева много от биографии самого автора. Поднимаясь над фактами личной жизни, писатель раскрывал размежевание деревни, рождение осознанного протеста против старого мира. Неповторимы и народная основа, и северные краски «Деревенской повести».
По душе писателю всегда были характеры выносливых, пытливых, не склоняющихся ни перед какими невзгодами северян, людей доброй души и больших дел. Скульптор Шубин, зодчий Воронихин, художник Верещагин, издатель Сытин стали заглавными героями повестей К. Коничева. Им, ярким выразителям исконной талантливости людей Севера, мастерам искусства, народным просветителям, писатель отдал любовь, весь жар своего сердца. Он и родился на Севере, и служил ему своим пером честно, до конца дней своих.
Интерес к прошлому русского Севера – не только дань уважения отцам и дедам, талантливым народным самородкам, через века прокладывавшим дорогу ко всему прекрасному в мире. В книгах К. Коничева вскрываются истоки нравственной силы, душевной красоты и жизнестойкости русского характера. В кабинете писателя висела карта Вологодской области, испещренная красными кружочками. Ими отмечены места, где бывал он в горячее послереволюционное время, в двадцатых годах и на склоне лет своих. Как давний друг приходил писатель в избу колхозника, на квартиру рабочего, забирался в глухие домшинские и чебсарские леса или задушевно беседовал со своими героями где-нибудь под Тотьмой на Сухоне у рыбацкого костра. Он не только утолял свою любознательность, но и поддерживал людей добрым словом, уместной прибауткой, веселым рассказом.
А память у дяди Кости была завидная и – все больше убеждаюсь в этом – добрая память. Многое из того, что вошло в эту книгу-копилку, мне довелось слушать не раз из уст самого писателя. Он часами, ни разу не сбившись, мог читать разухабистые рифмованные притчи Демьяна Бедного, которого знал со дней гражданской войны и не раз пересказывал своим землякам, устьянским крестьянам. Он, как живописец, резкими мазками, рисовал картину выступления Э. Багрицкого в Вологде с «Думой про Опанаса», рисовал так, что эта картина и сейчас стоит перед моими глазами, словно я присутствовал сам на чтении этой поэмы, видел синий рубец от шашки, пересекавший открытый лоб поэта, слышал те строки из «Думы», которых теперь не нахожу в ней.