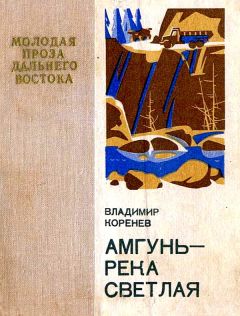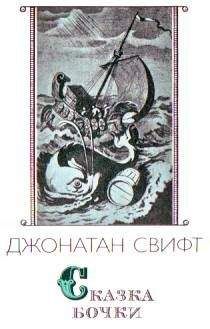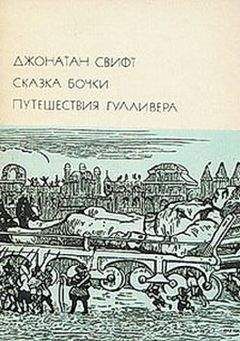И, уже стуча в окно следующего вагона, Лыкин орал:
— Подъем, парни! Аврал! Все на разгрузку! Вы что? Спать сюда приехали?! Выходи!
Ноги с трудом влезли в отсыревшие, разбухшие сапоги.
«Все равно под дождь, — подумал Денис. — Только чертовски тяжелые».
Матвей Ведунов лежит пластом, безнадежно месяц без малого: крутит, ломает все тело, раскалывает голову. Проследив в памяти дни, когда бы он мог так простыть, Матвей пришел к мысли, что это случилось в начале октября — шли холодные, промозглые дожди. В один из тех дней заднее колесо его автобуса село, и пока он поддомкрачивал машину, выкатывал запаску, пока менял скаты, затягивал футорки, промок до нитки, пропотел, а окно, когда сел в кабину, не закрыл, и тогда, видно, его и прохватило. «Раньше не прохватывало», — подумал он и усмехнулся грустно.
Тогда он попросил всех выйти из автобуса, под дождь: иначе ему было не поднять машину; и люди мокли под дождем, нахохлившись, смотрели, как он работает. Он чувствовал на себе их недовольные взгляды, торопился, и несколько раз у него сорвался ключ, и он сбил на большом пальце кожу как раз на сгибе, и потом эта сбитина долго не заживала — трескалась, и из трещин сочилась сукровица — и это тоже, казалось ему, было признаком старости.
Какая-то женщина, в красном легком плаще, заметила кровь и сказала как-то испуганно:
— У вас кровь на руке…
И только тогда он увидел струйку жидкой алой крови и почувствовал саднящую подрагивающую боль в пальце. Он отмахнулся, пустяк, мол, и продолжал крутить гайки, тут же забыв о боли.
Вечером, сдав смену, он сразу пошел домой, от ужина отказался, сказав, что поел в заводской столовой, и рано, раньше обычного, лег в постель и тут же почувствовал, что весь горит, даже веки, казалось, раскалены.
Алена почувствовала что-то неладное, подошла и склонилась над ним: он сделал вид, что спит. Она окликнула мужа и тихо, осторожно приложила руку к его сухому лбу.
— У тебя жар, Матвей, — услышал он дрогнувший голос.
— С чего? — грубовато опросил он и повернулся на бок, освобождаясь от ее руки. Никому, даже жене Матвей не хотел сознаться, что к нему привязалась хворь. Он боялся больниц, врачей, таблеток, в которые никогда не верил. За все прожитые шестьдесят лет никогда к ним не обращался, надеясь только на самого себя, на свое здоровье, ни разу не подводившее. И в этот раз он был уверен, что справится с недугом.
За неделю до этого Матвей сильно переволновался, думал, что его, вышедшего на пенсию шофера, больше не допустят до машины, ходил сам не свой, но его оставили: то ли пожалели, то ли просто потому, что на заводе не хватало шоферов и ставить на дежурный автобус молодого водителя посчитали расточительством. И его оставили. Он успокоился, но тревога, что его в любое время могут лишить машины и вообще работы, не проходила, она стойко жила в нем, и, меняя прохудившийся скат, он сразу подумал, как бы эта беда с колесом не повлекла за собой другую. Нет, не болезни и смерти боялся Матвей Ведунов, он боялся остаться не у дел, без работы, которая и была в его понимании жизнью.
И утром, пересиливая ломоту в суставах и боль в мышцах, он пошел на смену, убеждая себя, что все это пустяки, все пройдет, работа выгонит хворь. И на людях он крепился, даже разговаривал больше обычного, встревал в любой вспыхивающий в салоне автобуса разговор, когда нужно было, смеялся, показывая щербатые крупные зубы. И продержался так целую неделю, а потом сдал и до праздников уже не поднимался. Матвей удивлялся болезни, обратавшей его, и себе самому, вдруг ставшему беспомощным, каким он себя и не помнил, потому что никогда не болел.
Сразу, утром, когда в первый раз не смог подняться с постели, он подумал, что это все, конец, и что здесь поделаешь — пришел и его черед, но, увидев испуганную Алену, остановившуюся у кровати, почему-то решил, что к празднику будет уже на ногах. Уверовал сам в это и Алене сказал:
— Еще на демонстрацию пойдем, мать. Точно.
И уже этим и жил, частенько заговаривая со своей болезнью, как с живым существом:
— Нет, нас так просто не возьмешь. Нет! И не такую силу обарывали.
И в день праздника, проснувшись, Матвей почувствовал, что болезнь покинула его. Он проснулся и некоторое время лежал без движения, прислушиваясь к себе, все еще не веря своему исцелению, а потом открыл глаза.
Через окно в комнату вливался мягкий, красновато-розовый свет раннего солнечного утра, пахнущего свежестью молодых только что собранных с грядки огурцов с приятно колкими пупырышками, впитавших в себя прохладу ночи и остывающее тепло земли.
Он долго, с щемящей радостью смотрел на окно, на этот свет, когда почувствовал, что кто-то на него смотрит, и повернул голову. В дверях комнаты стояла Алена. То ли от утреннего света, то ли от улыбки, так высветившей ее лицо, она показалась Матвею забыто-молодой, какой была в первые годы их совместной жизни, еще до войны, которая ее быстро и безвозвратно состарила.
Он улыбнулся ей и сказал бодро, сам дивясь и радуясь своей бодрости:
— Что я говорил, мать? Все как рукой сняло!
За завтраком он плотно, с аппетитом поел, шутил с повеселевшей женой, а когда за окном медно грянула музыка демонстрации, захотел посмотреть на праздничный город. Нет, не из окна, с балкона!
— Не надо бы, Мотя, — сказала жена. Но его уже было не остановить.
— С балкона!
И засуетился.
Пока он одевался, она распахнула двери балкона и протиснула туда его любимое обтянутое красной кожей кресло. Он сам поднялся и даже сделал самостоятельно несколько шагов, прежде чем Алена подхватила его. Она обрадовалась этим первым после стольких дней болезни шагам и тоже вдруг поверила, что он выздоровеет. Она с нежностью посмотрела на бледное повеселевшее лицо мужа, счастливые глаза, в зрачках которых отражалось, жило взволнованное море красных летучих шаров, знамен и флагов.
Алена усадила Матвея в кресло, проверила еще раз, все ли застегнуты пуговицы на его пальто, плотнее подвернула шарф и встала за спиной, положив руки на широкие мужнины плечи.
После демонстрации он почувствовал слабость, сказал Алене, что отдохнет, лег в постель и сразу уснул. Но сон его был неглубокий, ему все казалось, что демонстрация продолжается. Идут и идут улицей колонны с флагами и транспарантами, а он, Матвей Ведунов, почему-то оторвался от них. Какая-то сила подняла его вверх, и вот он парит, парит над флагами, воздушными шарами, над крышами домов, над колонной демонстрантов. А потом его понесло, понесло куда-то вверх, в глубину неба, и еще какое-то время он видел все уменьшающуюся колонну, шары, связки шаров, отставшие от него, а потом все исчезло из глаз, пропало в дымке, а он летел и летел в голубом небе. Почему-то ему не думалось о том, куда он летит. Впрочем, он уже не летел, а ехал. Рулевое колесо — обыкновенная баранка, точно такая в его автобусе — слушалось малейшего движения его руки, и двигатель гудел ровно, без перебоев, и он совсем успокоился, облегченно вздохнул…
Алены в комнате не было, а ему не терпелось рассказать ей свой странный сон. Матвей снова забылся и снова увидел себя за рулем.
…Впереди на дороге, близко, очень близко, что-то мелькнуло, покатилось под колеса его машины — живое! Он крутнул баранку вправо — резко, нажал поспешно на тормоз и увидел, что машина висит над пропастью «дороги в рай» на Баджале, куда он однажды чуть не сорвался по гололеду. Сейчас пропасть его почему-то не испугала, он подумал о том, что ему удалось-таки вывернуть машину и колеса не задели то живое, что мелькнуло на дороге. Уже чувствуя, что машина падает в пропасть, Матвей успел с удовлетворением подумать, что спас от верной смерти то живое. А машина, пикируя, врезалась в скалу…
Матвей открыл глаза, встал, не чувствуя привычную, стертую, поприглаженную от долгих лет ворсистость коврика ступнями ног, не осознавая того, что стоит, и вдруг взмахнул руками и, падая, глухо ударился о спинку кровати головой. Он еще помнит красные круги перед глазами, а уж потом увидел всполошившуюся Алену, ее подергивающееся бледное лицо. Она что-то беззвучно, или это он не слышал, шевелила разъехавшимися слезливо губами. Попытался сообразить, что с ним произошло. Наконец он услышал — она причитала:
— Матвеюшко, что же это? Господи, боже, да что же ты делаешь-то?
Слезы текли из ее глаз.
— Ну-ну, — сказал он, испугавшись этих слез, понимая, что это он их виновник, и боясь, что с ней случится худшее — с ее-то сердцем! — и повторил как можно спокойнее: — Ну-ну… — И добавил: — Встал вот неловко и упал… Всего-то… — Матвей ворохнулся, чтобы встать, но она удержала его за плечо.
— Лежи, лежи, Мотя. Отлежись немножечко. Кровь пусть сгустеет. Рассадил-то голову как… страшно, — и зажала рукой рот, а из глаз быстрее потекли слезы. — Врача вызову я, Мотя.