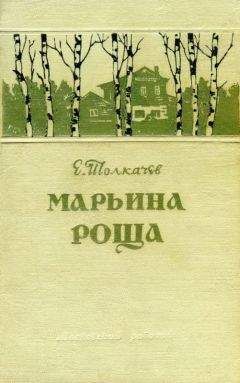Не принес успеха визит делегации сдавшихся юнкеров Алексеевского училища. Не уговорили они сдаться защитников штаба. Сдать штаб, — все это понимали, — значит открыть подступы к Александровскому училищу, потерять важнейший форт на западе обороны. И все-таки юнкера и офицеры начали поодиночке уходить из окружения и сдаваться в плен.
К ночи пришла смена. Сережа шагал в казармы гордо: он был в бою. В общем, совсем не страшно… Вернее, не очень страшно.
Наступало второе ноября.
* * *
Всю ночь пылал многоэтажный дом Коробова. В решето превратились окрестные домишки, особенно трактир и аптека. Невозможно держаться против артиллерии. Большевики научились стрелять и без таблиц… «Кроют не очень метко, но часто, и попадают. Что наши две пукалки могут против шестидюймовок? Говорят, погиб Беляев. Кто следующий? Не я ли?.. За что я, собственно, сражаюсь? Что мне нужно? Оставьте праздные мысли, Поручик Жуков. Даже если бы вы захотели, уйти вам некуда, вы в окружении, милый мой… А жизнь так хороша, так не хочется умирать… А что, если попробовать все-таки?..»
Рано утром третьего ноября пал последний опорный пункт белых: 5-я школа прапорщиков сдала оружие. Последний раз грохнули в Москве орудия и стихли. Враг был сломлен.
«Приказ Военно-революционного комитета от 2 ноября г.
С пятницы, 3 ноября, все магазины, лавки, трактиры, молочные и чайные должны быть отперты в часы, назначенные для торговли. За выполнением приказа должны строго следить районные комиссары».
«Обращение Военно-революционного комитета Сущевско-Марьинского района 4 ноября 1917 г.
Военно-революционный комитет просит всех товарищей весьма тщательно относиться к удостоверениям военно-революционных комитетов, Советов, предъявляемым разными лицами. Установлено, что многие мандаты некоторых районов: Центрального военно-революционного комитета, Сущевско-Марьинского, Городского и др. — подделываются разными темными лицами с целью шпионажа и грабежа. Пример: 1 ноября у одного из арестованных грабителей найден мандат Военно-революционного комитета Центрального Совета за подписью тов. Ярославского; между прочим, мандат оказался не отвечающим ни содержанию, ни редакции обычных мандатов.
Будьте осторожны, товарищи, и строго относитесь к проверке мандатов; не доверяйте всякому предъявителю таковых мандатов.
Военно-революционный комитет».
Не один житель Марьиной рощи, прочитав это обращение, вспомнил о братьях Алексеевых.
Любые справки можно было заказать братьям Алексеевым. «Работали» они на Тверской в очень удобном noмещении, принимали заказчиков в трактире на Сретенке, а жили в Марьиной роще. Дома ничего не держали такого и обысков не боялись: нет доказательств, не пойман — не вор. Славились по Москве их документики, да и Марьина роща по знакомству заказывала разные справочки.
* * *
В пятницу, десятого ноября, длинные колонны потянулись из районов на Красную площадь. Не было веселых песен, не было праздничного ликования. Москвичи шли хоронить погибших в октябрьских боях. В холодном воздухе печально раздавалось «Вы жертвою пали», и хотелось верить, что эти жертвы — последние.
Ровно в полдень 238 гробов были опущены в братскую могилу вдоль Кремлевской стены, между Никольскими и Троицкими воротами.
В молчании расходились люди с Красной площади. Радость победы была омрачена: все понимали, что наступает суровая эпоха борьбы за сохранение завоеванного, что впереди еще много труда и испытаний.
В списках личного состава красногвардейских отрядов Сущевско-Марьинского района, участвовавших в октябрьских боях, трижды встречается фамилия Кашкин. Николай Михайлович Кашкин был убит в одном из сражений с белогвардейцами на Кисловке, когда сводный отряд сущевско-марьинцев принимал участие в наступлении на Александровское училище. Он похоронен вместе с другими героями Октября в братской могиле на Красной площади. Савелий Сергеевич и Михаил Иванович Кашкины остались служить в Красной гвардии и после октябрьских дней. Оба защищали революцию на фронтах. Савелий Сергеевич погиб в 1919 году.
Пошла вторая неделя Советской власти.
КАЖДЫЙ РАБОТАЕТ ПО-СВОЕМУ…
Затихли октябрьские бои. Враги были побеждены и сдавали оружие. Все ли? Всё ли?
Куда, однако, девались те, кто не держал в руках винтовки, но каждым своим действием, каждым словом вредил делу революции, задерживал ее ход? Где те, для кого любая клевета на победителей была еще самым деликатным оружием из богатого арсенала, где хранились все специальные виды вооружения, начиная с простенькой лжи и грубоватого подлога и кончая кинжалом, ядом и бомбой? В какие дальние страны сбежали они? В какие мышиные норки запрятались оставшиеся? Никуда они не девались, ни в какие дальние страны не бежали. С удивлением увидели они, что никто их не уничтожает.
Вот жизнь пошла-то! Если до войны тянулась она ленивым шажком, если в войну двинулась солдатским мерным шагом, если с февраля затрусила егозливой рысцой, то после Октября помчалась прытким галопом, то вскачь напрямик, то вдруг свертывая вбок, на ухабы, на целину, и мчалась, мчалась неведомо куда, — то есть мудрым людям и ведомо куда, а коренным жителям Марьиной рощи неведомо. Вчера только стала окраина вроде городом, да только по названию, ничего в ней городского не появилось.
Что же делать рощинцам? Кое-кто завертелся в вихре событий; другие суетливо стали оглядываться — подальше от бурных волн; иные уперлись по-бычьи на своем, старом, ничего не признавая; заткнули уши, зажмурились крепко; кое-кто сел у окошка наблюдать и соображать, считая, что пока-то доберутся события до Марьиной рощи, раздробятся они на мелкие кусочки, и донесет до проездов только самую нестрашную малость.
В трактирах бьется пульс Марьиной рощи.
Семен Дубков, маленький хозяйчик небольшой сапожной мастерской, из полупочтенных, все не может успокоиться.
— Ведь это что же? — чуть не плачет он. — Ограбили, совсем ограбили. Прибыл ко мне с фронта мой ученик — мастерок, ну, прямо скажу, первый сорт. Работал — во! Любое дело мог. И знаешь, Афремыч, до чего дешево обходился: за одну еду работал… Я так думаю, Афремыч, беглый он был, дезертир вроде… Хотел мне бумажки показать, а на что мне бумажки? Я не поп и не пристав. Ну вот, живет у меня Митька мой месяц, другой, третий тихо-спокойно, даже из дому не выходит. Ну, скажи, душа радуется, что за мастерок… И заметь: не пьет ни в какую, — где еще такого найдешь?.. А вот как начали на улицах стрелять, схватил мой Митька свой солдатский мешок, говорит: «Прощевайте, Семен Павлыч, не поминайте лихом», да и был таков! Я ему: «Да куда ты, да зачем, не ходи, убьют задарма», — а его и след простыл. Разорила меня, Афремыч, эта самая ихняя пальба.
— Ничего, — лениво возражал Афремыч, — хватит с тебя учеников, из них кровушки еще попьешь немало.
— Да-а, попьешь с них, как же… Мне что обидно, Афремыч, что потерял я этот самый… ну, как его?.. ну, словом, вера у меня в людей покосилась. До того я никому не верил, считал, что всякий норовит у меня клок урвать, а как заявился Митька, мой ученик бывший, ну, думаю, ошибся я — есть правда на свете, не все кругом подлые люди. А теперь, что ж, теперь я опять людей презирать должен…
— Презирай на здоровье, — цедит Афремыч, — им-то что?
— Не поймешь ты меня, Афремыч, — сокрушается Дубков.
… — Скажи ты нам, Паша, что у вас на заводе говорят: долго эти большевики продержатся?
— А что им не держаться?
— Да мыслимое разве это дело: сколько их всего-то? Ежели народ не захочет…
— Вот, видно, народ хочет.
— Опять смена правительству будет.
— Откуда знаешь?
— Да уж знаю. Верный человек говорил.
…— Надоело как, нет тебе никакой устойчивости. Чем дальше, тем хуже.
— Известно: чем дальше в лес…
— Я так считаю: нам все равно, кто над нами, был бы хлеба кусок.
… — Приходит это Санька и нахально требует: «Отдай мое зажитое». А я отвечаю: «Нет твоего зажитого». Шумит: «Я красный гвардеец, а ты меня зажимаешь». Я говорю: «Чем спорить зря, иди к мировому, он рассудит». Ему и крыть нечем, хе-хе!
— Сердитый он на тебя теперь.
— А мне что? На сердитых воду возят.
… — Нет, Сергеич, немысленно так работать, без покою-то. Уеду в деревню, а там видно будет.
— А дом как?
— Сосед присмотрит.
— Смотри, растащут.
— Бог милостив.
…— Убоялся Блинов: лавку продал, сам удрал.
— Чего ж он убоялся?
— А как же? О девятьсот пятом годе жил у него на квартире один человек, механик с «Трехгорки». Как задавили тогда забастовку, захотел Блинов отличиться. Прислал механик приятеля за своими вещами, а Блинов этого приятеля — цоп! — и кричит «караул». Только вывернулся приятель, ушел. Попользовался Блинов жильцовыми вещичками, а что похуже — в полицию сдал. Все хвастался: медаль, мол, дадут.