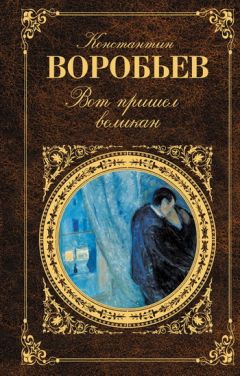— У тебя, дорогой мой, получается как в старой русской поговорке — не все работа у мельника, а стуку вволю.
Я казался себе ничтожным и каким-то мусорным.
— Тебя надо пересадить куда-то, а куда — вот вопрос! — возбужденно, с неожиданным пылким участием ко мне сказал вдруг Дибров, до белков округлив глаза. — Запутался, понимаешь, среди двух женщин и барахтается!
Поколебать эту его глобальную убежденность в том, что я запутался между Лозинской и Волнухиной, как воробей в застрехе, было не только невозможно, но, как я мгновенно сообразил, и не нужно, — Дибров ведь не выводы делал о моем аморальном поведении, а доброхотно устремился высвободить меня из застрехи. Та бессмысленная улыбка, что расцвела на моем лице, почему-то еще больше воодушевила его на непрошеную помощь в переселении.
— Пойдем посмотрим, что можно будет сделать, — сказал он и поднялся раньше меня. Это хорошо, что Ирена не видела, как по-адъютантски неуклонно следовал я за Дибровым по коридору издательства в том нашем изыскательном походе. Дибров стремительно шел впереди, а я сзади и чуть сбоку. Я сохранял дистанцию шага в полтора, которая, как мне казалось, вполне гарантировала перед встречными мою самостоятельность и независимость. По пути Дибров открывал двери кабинетов, с порога здоровался с их обитателями и тут же направлялся дальше, не оглядываясь на меня. Каждый раз я норовил оказаться в створе открываемых им дверей в кабинеты: со стороны все это могло быть похоже на какую-то инспектирующую проверку директором в моем сопровождении прилежности своих подчиненных. У седьмого из числа проверенных нами кабинетов на двери висела стеклянная табличка, извещавшая золотыми буквами, что это редакция поэзии. В кабинете, развернутый наискось от окна к углу, стоял стол, а за ним прямо и низко, как школьник за партой, сидел подросток-мужчина с лицом залежавшегося яблока, — оно лоснилось и в то же время увядше морщилось, и невозможно было определить, сколько лет этому товарищу — шестнадцать или тридцать два. Тут, наверно, помещались в свое время два стола, потому что справа от дверей на полу у стены пустовал второй телефон, скрытый стулом. Когда Дибров вошел в кабинет, телефон этот звонил. Дибров наклонился и снял трубку, но в аппарате звякнул отбой.
— Товарищ Кержун, переносите свой стол и располагайтесь здесь! — начальственно сказал мне Дибров, указав на стул, под которым стоял телефон-беспризорник. Я поблагодарил и пошел по коридору. Я шел медленно, потому что не знал, как объявить Ирене при Вереванне о своем внезапном переселении и как мне, не роняя достоинства «пижона», перетащить стол… Позади себя я слышал удалявшиеся по коридору шаги Диброва, и когда оглянулся, то увидел рядом с ним хозяина моего нового кабинета, — он, ступая почему-то на носки ботинок, протестующе говорил что-то Диброву.
— Лично вам, уважаемый товарищ Певнев, это ничем не грозит. Совершенно! Занимайтесь, пожалуйста, своим прямым делом, за что государство платит вам деньги!
Это сказал Дибров жестко и сильно, и я с отрадой подумал, как ладно подходит он своей замечательной должности и как эта должность здорово подходит к нему!
Хотя стыд и считается нормальным нравственным чувством любого порядочного человека, все же лучше как-нибудь избегать его, потому что в этом состоянии ты непременно оказываешься в глазах твоих ближних не только жалким, но и смешным. Я не нашел способа словесно или молча внушить Вереванне, что добровольно ухожу из комнаты, и получилось, будто меня выдворили отсюда после той ее «хохолковской» жалобы Владыкину. Так, по крайней мере, думалось мне, когда я под тревожно-утайными взглядами Ирены начал разбирать свой стол. Я неудачно снял крышку, прислонив ее к себе внутренней стороной, и вся накопившаяся там пыль и паутина осели на мой костюм. Мне бы так и выйти в коридор, чтобы на обратном пути за остальным почиститься, но в презрительном протесте против Верыванны я с грохотом опустил крышку на пол и угодил себе кромкой на ноги. Я тогда панически струсил, что не вынесу эту дикую пронзительную боль и со мной может случиться то, что происходило в таких случаях в детстве, — неудержимо постыдный грех по-маленькому, когда ты ничего не можешь сделать, когда легче бывало прервать крик, чем прекратить то. В пыли и паутине, да еще с искаженной от боли, стыда и страха физиономией, я, конечно, не мог не вызвать у Верыванны здоровый утробный хохот, и неизвестно, сумел бы я удержаться от ответной грубости, если б не Ирена.
— Может, вам помочь, Антон Павлович? — ради предотвращения нашей прощальной ссоры с Вераванной спросила она, и меня возмутило, что в ее голосе не было ни скрытого страдания, ни тревоги за меня, — наверно, не заметила, как я ушибся, а кому же надо было замечать это в первую очередь, черт возьми, если не ей! Не думаю, что я картинно выглядел, когда вышвыривал в коридор крышку стола, а потом выволакивал обе тумбы…
Нет, стыд — не слишком ценное духовное достоинство. Он кого угодно способен превратить в дурака…
Было ясно, что с Певневым у нас не получится гармоничное сосуществование, — он молчаливо отверг мое корректное извинение за невольное вторжение и не назвал свое имя-отчество, когда я представился ему: сам до того дня я ни разу не видел этого человека, а стало быть, и он меня тоже. Мне был понятен этот его святой неуклюжий протест, — сидеть вдвоем в кабинете — значит, наполовину умалить перед авторами, особенно начинающими, высоту своего редакторского пика, и развернутый от угла к окну стол не будет уже овеян для них неким мистическим значением, хотя местоположение моего стола нe может не подчеркивать мою как бы второстепенную роль в делах этого кабинета. Я предпринял еще одну сомнительную попытку примирения на будущее и с видом парня-рубахи спросил, как у вас обстоят дела с курением, — пепельница на первом столе отсутствовала.
— Я лично не курю и просил бы…
Голос Певнева звучал по-женски. Я сказал, что все понятно. Мне все еще было лихо от своего безобразного «волокушного» ухода под отвратительный сытый хохот Верыванны, и требовалось что-то сделать, чтобы встать в прежний рост перед Иреной и перед самим собой. Теперь у меня был личный рабочий телефон. Я полуотвернулся от Певнева и позвонил Ирене.
— Вас слушают, — неприветливо сказала она. — Алло!
— Добрый день, Альберт Петрович, говорит Кержун, — сказал я.
— Здравствуйте… Николай Гордеевич, — на секунду запнувшись, ответила Ирена.
— Хочу предупредить вас, что с нынешнего дня я перебрался на новое место, — сказал я.
— Вы, кажется, были в творческой командировке?
— В кабинет редакции поэзии, — сказал я. — Номер моего телефона два девять ноль тридцать четыре.
— Это любопытно.
— Так благосклонно соизволило решить начальство, потому что здесь несколько попросторнее, — сказал я не столько ей, сколько Певневу.
— Вот как!
— Теперь такое дело. История слова труперда связана с именем Пушкина. Он называл так княгиню Наталью Степановну Голицыну.
Ирена слушала.
— Вот именно. Просто толстая и глупая бабища, — сказал я. — Она не принимала у себя Пушкина, считая его неприличным. Пижоном того времени, так сказать.
— Я этого не знала, — живо сказала Ирена.
— Так что вы смело можете оставить это слово в своей памяти как вполне правомочное. Конечно, Пушкин произносил его прононсом, на французский лад, но это ведь не меняет сути.
— Очень хорошо, Николай Гордеевич, что вы сообщили мне это вовремя. Такие исправления лучше вносить до корректуры.
— Пожалуйста, — сказал я. — Вы не могли бы навестить меня сегодня вечером?
— Нет, Николай Гордеевич. Этот абзац у вас я опустила полностью, потому что в нем пробивается какая-то рискованная двусмыслица. Может, вы переработаете его, не нарушая идеи?
— Жаль, — сказал я.
— Хорошо. Потом сообщите мне… Всего доброго!
— До свидания, — сказал я.
Январь надвигался на меня как гроза, после которой должно произойти обновление мира, когда в нем останется для меня только восемь простых беспечальных цветов — голубой, синий, зеленый, оранжевый, красный, белый, желтый и фиолетовый, а все остальные — и прежде всего серый — исчезнут! Я ждал и боялся января и себя в нем. Как это все будет? Как я смогу перевернуть обложку журнала и не ослепнуть при виде своей фамилии, не упасть и не закричать о помощи под непомерной тяжестью того неизъяснимо радостного и громадного, что обрушится тогда на меня одного!..
Это именуют по-разному, в зависимости от того, кто вы есть, и каждый называет это для себя исчерпывающе точно: один — везением, второй случайностью, третий — как ему бывает доступно, но оно, независимо от всех эпитетов, в самом деле извечно существует среди нас и ради нас, людей, только место его находится где-то поверх земли, ближе к небу. Оно — это то, что иногда и как бы в последний миг исполняет тайное устремление вашего сердца, и я лично склонен называть это судьбой. Ей, судьбе, было угодно, чтобы тридцатого декабря в одиннадцать часов утра Певнев отлучился из кабинета минутой раньше звонка Ирены.