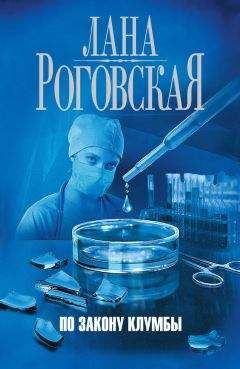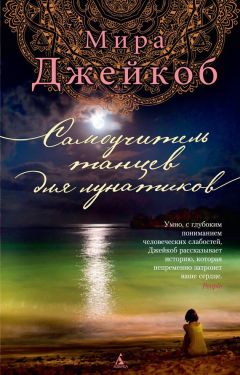— Значит, я прав! — сказал Белов. — Ваши примеры свидетельствуют о том, что этим людям уже не рабочими надо быть, а техниками, инженерами.
— Почему это сразу техниками да инженерами? Пусть поработают. — Илья Матвеевич снова начал мрачнеть. — Вот они, руки! — Он показал свои большие, в рубцах и шрамах, широкие ладони. — Я ими без малого десяток крупных кораблей построил. Мелких и не сосчитать. И скажу: не я, рабочий, к инженерам, а инженеры ко мне, к рабочему, советоваться ходят.
Белов кашлянул. Этот осторожный, в руку, кашель показался Илье Матвеевичу почему-то очень обидным. Илья Матвеевич услышал в нем недоверие к своим словам, будто профессор не кашлял, а говорил: «Не хвастаете ли вы, товарищ Журбин?» Илья Матвеевич рассердился на все сразу: и на Белова, и на себя, и на дурацкий галстук, который глупо свешивался с комода, и на Агафью Карповну с Тоней, зачем придумали этот театр. Не торчал бы тогда битый час перед зеркалом, а ушел бы к Александру Александровичу, и не надо было бы с этим профессором заниматься словесной путаницей.
— И копейки весь спор не сто́ит, — заговорил он зло. — Чего спорить! Хочет этот парень быть рабочим, — значит, призвание такое, значит, понял место рабочего класса на земле. Что такое рабочий класс? Он все классы ведет за собой. Он все может. Он — главная сила. Вы, товарищ профессор, боитесь за сына вашего приятеля: пропадет, назад начнет двигаться… Нет, в рабочей семье он не пропадет, он сил наберется, а после из него может такой специалист получиться, что всех нас удивит. Про Антона говорите: талантливый! А он — что? Он сначала судосборщиком был. Пропал? Нет, не пропал.
— Не могу, не могу, Илья Матвеевич, никак не могу с вами согласиться. Абсолютно неправильно это — окончив десять классов, не учиться дальше. Заскок какой-то у всех у вас — и у вас лично, и у моего друга Червенкова, и у его сына.
— У Червенкова? — спросил Илья Матвеевич удивленно. — Значит, это про Игоря?
— Вы его знаете?
— А как же! Толковый парень.
Вошел, прихрамывая, Антон. Илья Матвеевич и Белов посмотрели на него невидящими глазами — каждый из них думал свое, — разговор, в котором никто уступать не собирался, прекратили.
Илья Матвеевич проводил Белова до калитки, а когда возвратился в дом, вспомнил, что гость хотел рассказать ему о Титове, да вот не рассказал, — и разбушевался.
И тыквы оказались не там, где надо, сложены, и обед запоздал, и ботинки жмут — пересушили их, что ли? — сколько раз учил, не ставьте на печку, — и вообще по театрам он не ходок. Никто не перечил. В семье был опыт: не уговаривать отца, помалкивать — от уговоров пуще разойдется. Главное — предоставить все времени.
Предоставили. Расколол одну тыкву, швырнул ботинки под диван, за обедом сидел в носках, ни на кого не глядя, свирепо посапывал. Потом ушел и заперся в своей комнате. Тоня тоскливо посматривала на часы.
В семь часов Илья Матвеевич появился уже в ботинках — нашел какие-то посвободней — и при галстуке, повязанном вполне прилично, причесанный и даже надушенный.
— Ну сколько вас ждать? — сказал ворчливо. — Копаетесь!
Ждать ему не пришлось. Агафья Карповна и Тоня давно собрались. Они предвидели, что буря, затеянная главой семьи, закончится именно так. И не дай боже, если бы Илья Матвеевич застал их врасплох, — буря могла вспыхнуть с новой силой, перерасти в ураган — ни о каком театре тогда больше и не заикайся.
Сколько подводных камней на пути семейного корабля, как зорко следить надо за ними, с виду иной раз ничтожными, но опасными. Команда такого корабля должна быть очень дружной, и каждый в ней обязан владеть лоцманским искусством.
3
На Ладе начиналось то отвратительное время, которое ненавидел Александр Александрович, — время дождей и ветров, холодных, пасмурных дней. Осенью Александр Александрович опоясывался поверх пальто широким солдатским ремнем и носил брезентовый жесткий плащ с капюшоном. Капюшон был откинут на спину, и в нем скапливалась дождевая вода. Старый мастер зяб, ворчал, его тянуло в конторку к чугунной печке; но, как бы ни свирепствовали ненавистные ветры, весь рабочий день Александра Александровича проходил не у печки, а на стапелях.
От ветра страдали судосборщики, клепальщики, сварщики, вахтеры, инженеры. Главный конструктор Корней Павлович, приходя на стапель, говорил: «Я совершенно балдею на таком юру, делаюсь как пьяный. У меня пищит за ушами и теряется равновесие».
В эту пору вновь возник вопрос: что же делать с дедом Матвеем? На разметке его оставлять уже было нельзя, Дуняшка работала за двоих — за себя и за деда. Вновь председатель завкома пришел к директору, сел в кресло, достал портсигар, постучал по нему мундштуком папиросы.
— Ну, что будем делать-то со стариком? Решай.
Иван Степанович не ответил. Посасывая трубку, он следил за ходом маятника похожих на шкаф, громоздких часов в углу кабинета. Маятник с медным упорством настаивал: реш-шай, реш-шай. Мысленно Иван Степанович перебирал все, как ему казалось, сколько-нибудь подходящие для деда Матвея должности. Вахтер, сторож, истопник… Истопник! Возможно ли, чтобы «живая биография завода» закончила свой век возле печной дверцы? Нет, эти должности начальнику славного рода Журбиных явно не годились. Что же тогда ему годится? Неожиданно пришла мысль, такая, по мнению Ивана Степановича, великолепная, что он, обрадованный, швырнул на стол свою дымившуюся трубку и засмеялся.
— Петрович, идея! Посадим его ночным дежурным здесь, в директорском кабинете. Пост, объясним, почетный, ответственный. Вот несгораемый шкаф с секретными документами, вот телефон для разговоров с Москвой. Не каждому такой пост доверишь. На деле получится что? Будет старик мирно спать в тепле и тишине на диване, допустим, часиков с десяти вечера до девяти утра или до скольких там захочет. Полное решение вопроса! Как считаешь?
Горбунова эта идея тоже обрадовала. Через несколько дней, поздним вечером, дед Матвей появился в кабинете директора.
— Здравствуй, Иван Степанович, — заговорил он, со стариковской осторожностью опускаясь в кресло. — Ты еще здесь? А я в должность пришел вступать.
— Как здоровье, Матвей Дорофеевич? — спросил Иван Степанович. — Давай-ка чайку со мной за компанию…
— Чайку? Чайку можно. Чай, понятно, не водка, его, как известно… да я и водки много не выпью. Чего там про здоровье? Здоров. Ты объясни: что тут делать мне, чем заведовать?
Иван Степанович заговорил о секретных документах, которыми якобы набит его сейф, — на самом деле секретные документы хранились, конечно, в более надежном месте, а в сейфе лежали только пустой портфель да несколько папок с бумагами третьестепенного значения. Но Иван Степанович отомкнул сейф, для большей убедительности показал эти папки деду. Потом показал телефонный аппарат, связанный прямым проводом с Москвой, — дескать, толковый ответ надо дать, если из министерства позвонят. Из министерства же звонили по ночам только в самых редких случаях, и то обычно на квартиру директора. Об этом Иван Степанович умолчал.
Дед Матвей внимательно слушал, а сам думал: «Хитры вы, братцы, хитры, да не больно. Сажаете человека сторожем, а плетете ему невесть что, вроде как в министры определяете. Ну хитрите, тешьтесь, ладно». Слишком большой опыт жизни нес на своих угловатых плечах дед Матвей, чтобы можно было его, старого Журбина, обмануть этими директорскими россказнями. Он отлично понимал, что его рабочей жизни пришел конец, что отныне он сторож, самый обыкновенный сторож, но противиться этому не мог, не мог дольше висеть на шее у Дуняшки, которая каждый день переделывала всю его работу. И то ладно, что хоть на заводе оставили, не спровадили домой, в бабью компанию.
— Посидишь тут, Матвей Дорофеевич, полгодика — узнаешь, какова директорская должность, — заговорил Иван Степанович, когда буфетчица принесла чай и они оба дружно забрякали в стаканах ложечками. — Трудная должность. Сколько синяков тебе да шишек ставят! Откуда и не ждешь.
— Слыхал, — ответил дед Матвей. — Ребята наши говорили, как тебя на партийной конференции пропесочили.
— Вчера-то? Да. Вот видишь — работаю, работаю, а как собрание, непременно директора бьют по лысине.
— Неправильно, Иван Степанович, судишь. Кто тебя бьет? Тебя учат. За что учат? За то, что для всех хорошим быть хочешь. Для всех хорошим быть нельзя. Ты для дела будь хорош.
— И ты, значит, меня критикуешь?
— А чего? Начальника критиковать надо. Народ тебя поставил начальником, народ тебя и критикует. Не критиковать — потворство. А как вожди-то наши, руководители, про потворство говорят? Это, говорят, нетребовательность. Помнится, ты же на одном собрании той зимой выступал. Надо, мол, учиться у великих людей, как жить, как работать, как соблюдать себя.
Дед Матвей отхлебнул глоток, посмаковал: «Крепкий чаек».