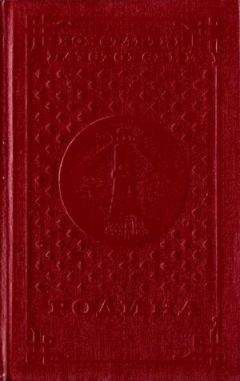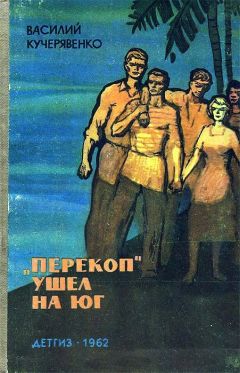Академия включена в конвейер социалистического строительства и «набирает скорость», – иначе она будет отброшена в сторону и не даст наибольшего эффекта в своей работе.
А не дать в наше время наибольшего эффекта – это значит не дать ничего.
Зависть
На остановке Соломенная Сторожка вагон трамвая стоял очень долго. Тимирязевцы грузили на заднюю площадку корзины, баулы и книги.
Они ехали в колхоз. Кондукторша терпеливо ждала. Безропотно ждал вожатый. Ждали пассажиры.
Студенты были возбуждены, хохотали. Так в старое время ехали не на трудную работу, а на каникулы в Крым.
Студенты пели и пританцовывали на площадке. На щеках у них был румянец, – не московский, а деревенский жаркий румянец.
И я испытал скверное чувство; зависть.
1930
В тридцатых годах Алексей Максимович Горький предпринял издание «Истории фабрик и заводов» и привлек к этому делу многих писателей. Работа над этой историей шла бригадным методом, но я не очень доверял этому методу (в применении его к литературе) и потому решил написать «единолично» предложенную мне историю Онежского завода в Петрозаводске.
Я собрал довольно большой материал об истории этого старинного завода, но когда напал писать, то ничего у меня не получилось, – живые люди вытеснили историю, отодвинули ее на второй план.
В итоге моей поездки в Карелию и Петрозаводск я написал две вещи – маленькую повесть «Судьба Шарля Лонсевиля» и несколько очерков под общим названием «Онежский завод».
Борьба за будущее
Старый худой инженер – директор завода – готовился к докладу. Закусив мундштук, он чертил на листе бумаги ломаные линии. Инженер привык чертить, и любая мысль делалась для него ясной лишь после того, как он изображал ее на бумаге в виде какого-нибудь непонятного рисунка.
Окончив чертить, инженер задумался. Над Онежским озером и Петрозаводском третий день безумствовал ветер. Он дул в щели, шевелил пожелтевшие инструкции на столе, сдувал на пол толстый пепел от стариковских крученых папирос. Уборщица гремела ведрами в пыльном коридоре и ругалась на погоду.
Но инженер не замечал ни серого света почерневшей угольной лампочки, ни ворчания уборщицы. Он думал, что делать с заводом.
Окончилась мировая война, пришла революция, и завод, приспособленный для военных заказов, очутился не у дел. Мастерские и заводские дворы опустели. У плотин бесполезно шумела лесная вода. Токарный цех сгорел. С каждым днем число рабочих убывало. Иные ушли в продотряды, другие – на юг, драться с Врангелем. У станков делали зажигалки, чинили примусы.
Инженер вспомнил, как о расцвете, о том времени, когда завод в дни борьбы с интервентами-англичанами вооружал бронепоезда и ремонтировал пароходы Онежской флотилии, носившие громкое имя «канонерских лодок».
То было время частых тревожных гудков, непонятных перестрелок, кромешных ночей, пахнувших ржавчиной и кровью, визга старых револьверных станков, бессонницы и оперативных приказов. Сутки напролет люди проводили на заводе, как в крепости, куда каждого невольно тянуло из темных квартир.
Вчера наконец были произнесены слова «закрытие завода». Беспрерывное ожидание этих слов приводило инженера в состояние страшнейшей усталости. Но как только они были сказаны, инженер начал сопротивление. Угроза укрепила волю. Необходимо было найти заказы и переключить обветшалый завод на новое производство.
Инженер вспомнил деревянные подъемные краны, установленные еще в XVIII веке, и усмехнулся.
– Что же делать? – сказал он вслух, хотя чертеж на столе говорил, что о спасении завода думать бесцельно.
Оставалось одно – превратить завод в жалкую ремонтную мастерскую Мурманской дороги. Половина станков обречена на бездействие, но другого исхода нет.
Основные положения доклада были готовы. Доклад инженера был принят. Пять лет после этого Онежский завод возился с ремонтом паровозов. Все эти пять лет и рабочие и инженеры чувствовали себя как моряки, вынужденные работать на речном перевозе.
Но в 1924 году дорога отказалась от ремонта. Снова были сказаны слова о закрытии. Снова начались судорожные поиски заказов. Завод хватался за все. За два года он шестьсот раз приспособлял станки к разношерстным заказам, за которые платили сто – двести рублей, переучивал рабочих, увольнял их и набирал снова, тратил силы на освоение мимолетных производств и едва сводил концы с концами.
То была отчаянная борьба за существование, игра на нервах, оттяжка времени, вызванная надеждой на скорое облегчение.
По пестроте изделий завод приближался к екатерининским временам своей истории. Рабочие ругались и говорили, что, очевидно, пришло время заняться лужением самоваров и починкой поломанных велосипедов.
Жизнь страны перестраивалась. Зрелище было подобно стремительному геологическому процессу. Пласты оседали, смещались, нарастали, но завод стоял на отлете от этого.
Он не нашел своего места и подбирал жалкие крохи. Военное прошлое уходило и забывалось. Мирное строительство обидно шло мимо. Завод походил на полководца, уволенного в отставку за роспуском армии и вынужденного торговать газетами или делать сапожную мазь.
Старый инженер сидел в пыльном кабинете, подписывал грошовые заказы и молчал. Изредка он говорил, что не должно быть места отчаянию, что выход будет, и набрасывал на столе непонятные чертежи. Все делали вид, что верят ему, – боялись его огорчить, – но каждый думал о том, куда бы поскорее удрать.
Завод застилал город жидким дымом из осевших труб.
Потом пришли первые известия об индустриализации страны, о планах ее перестройки. В этих планах на долю завода не было отпущено ни одной крупицы.
На заводе созвали открытое партийное собрание. Старый инженер пришел и сказал следующее:
«Я много думал над прошлым и будущим нашего завода. Что было в прошлом? Завод никогда не был органически слит с этим краем. Его ненавидели. Его проклинали. Разновременно завод был то застенком, то арестантскими ротами, то богоугодным заведением. В мирное время он засыпал. Оживал и работал он только во время войн. Прошлое завода мрачно, будущее как будто нам неясно. Но это кажущаяся туманность.
Необходимо прочно уяснить одну мысль, – завод может расцвесть и получить полную нагрузку лишь при условии, что он неразрывно сольется с жизнью Карелии и станет ей насущно необходимым. Карелия – страна бездорожья, озер и камней. Эти три слагаемых определяют будущность завода.
Бездорожье диктует нам необходимость производить дорожные машины. Озера и рыболовство требуют хороших лодочных моторов. Разработка камня вынуждает нас заняться изготовлением бурового инструмента.
Необходимо добиться реконструкции завода, расширить и омолодить эту дряхлую кузницу, создать здесь социалистическое предприятие, блещущее совершенством техники. Только после этого завод будет прочно впаян в экономическую ткань и Карелии и всего Советского Союза. Другого выхода, простите меня, я не вижу».
Это было правильно. Завод был спасен.
Чествование
С утра старый инженер волновался. От сильного волнения у него всегда ослабевал слух. Он видел за стеклянной перегородкой своего помощника Верхинена, шевелившего губами перед телефонной трубкой. Верхинен с кем-то говорил, но старик ничего не слышал.
Завод безмолвствовал. Все только шевелили губами и улыбались. Улыбки казались натянутыми. Даже улыбка секретаря комсомола Лены Мижуевой – всегда открытая и простая – была полна иронии.
«Я окружен недругами, – подумал инженер, но спохватился и покраснел. – Что за чушь приходит в голову!»
Разрывая пером бумагу, он подписал ведомость и спросил главного бухгалтера:
– Ну что, не раздумали меня чествовать?
Бухгалтер ответил поспешным пискливым голоском, как будто говорил по телефону из Владивостока:
– Что вы, что вы! Наоборот, все устроено!
Инженер пожал плечами и поднял брови. Он как бы говорил: «Воля ваша. Хотите делать глупости – делайте, но я умываю руки».
Волнение началось еще третьего дня, когда инженер узнал, что его хотят чествовать. Молчаливый и замкнутый, он ждал чествования, как пытки. Будут говорить речи, а он обязан сидеть истуканом, глупо улыбаться и краснеть, как мальчишка. Потом он должен по непонятной традиции отрекаться от своей работы и своих заслуг: «Что вы, что вы! Ведь это не я, а вы работали!» – кланяться, слушать рев духового оркестра.
– Ну вас к аллаху! – пробормотал инженер и пошел на завод. Инженер рассеянно отвечал на приветствия и морщился.
В кузнице к нему подошла Лена Мижуева. Молотобойцы форсили и гремели по наковальням вразмашку. Сотни раз он говорил, чтобы это безобразие было немедленно прекращено! В кузнице тесно, кувалды срываются, долго ли убить человека.