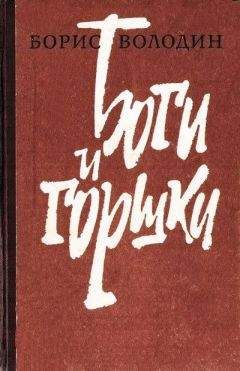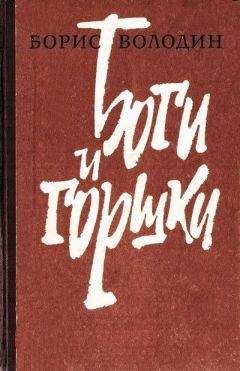Надя сказала снова:
— Я не могу. Ты будешь уходить. Я с ним одна. Пусть сейчас его не будет… Не будет, — повторила она.
А Шарифову тогда почудилось, что они говорят по телефону и плохо слышно.
Оба они смотрели в окно. Плотники на правом крыле дома прибивали к кровле листы железа, споро и точно. У Нади все лицо сделалось в пятнах. А Шарифов думал: «Она хочет, чтобы я всем пожертвовал и ей легче было жить…» Он увидел: санитарка побежала теперь от главного корпуса к его крыльцу. Значит, за ним.
…Вот так он живет — ложится спать, не зная, доспит ли до утра, а в гости идет или в кино — всегда должен говорить, где будет, чтобы могли вызвать. Лишнюю рюмку не может себе позволить. И Надя знает, что он сам выбрал себе такую жизнь и другой не хочет. И еще он подумал, что если был бы ребенок — вот уж действительно счастье, — был бы маленький твой человечек, он — и так никуда почти не ходит — сиднем сидел бы все свои свободные минуты рядом с ней и малышом; он верил, что всегда будет с ними в эти минуты, — как она смеет лишать его этого!..
Санитарка уже подбежала к самому крыльцу, ее даже не было теперь видно в окне. Нужно было кончить разговор, пока она не откроет дверь. Наружная дверь завизжала, упала скамейка в коридоре, загремели пустые ведра, громко, словно рушился потолок.
Он подумал: «Бью, чтоб опомнилась», — и сказал:
— Сделаешь аборт — разойдемся. Уйду.
Надя ничего не ответила.
А санитарка крикнула, что Кавелиной опять плохо. Она у себя, в родильном отделении. Шарифов выскочил вон из комнаты.
Надя не плакала. Она сидела у стола, ничего не слыша. Все люди больше не существовали. Была только она одна. Вот здесь.
Все сделалось противным от запаха ненужного супа, стывшего на столе.
Надя умела видеть себя со стороны. Она видела, как выглядит в новом платье, с новой сумочкой и в кабинете, когда быстро и ловко наводит световой зайчик в зрачок больного, рассматривая глазное дно. Она знала, как выглядит рядом с Шарифовым. И хотела знать, как все будет выглядеть дальше в их жизни.
А раз Шарифов вот так крикнул, то теперь ее не могло быть, этой жизни. Шарифов не объяснил, не успокоил.
Он швырнул ее в сторону. Чтобы идти дальше вместе, нужно догонять, брать за рукав, чтобы обернулся. А он сказал страшное слово: «Уйду». «Уйду» — значит «брошу». Как вещь. Теперь у него чужие глаза. Весь чужой.
Надя сидела долго. Пришел Шарифов. У него были сиюминутные мысли: что приступ у Кавелиной прошел только после атропина с морфием и есть срочный вызов. Надя стала убирать со стола, как после обычного обеда. Составила тарелки — чистые отдельно, грязные отдельно. Смела крошки, сказала:
— Я уеду.
А Шарифов подумал: «Никакой слабости. Иначе всегда придется уступать».
— Я уеду, — сказала Надя. — Завтра. Думаю, что уложиться успею.
А его вызывали в Капцево — за пятнадцать километров. У больного-легочника было тяжелое кровохарканье. Шарифов собирался минут сорок. Куда-то запропастились ключи. Потом упаковывал в вату ампулу с кровью для переливания, приторачивал чемоданчик к седлу. Злился, что их ссору с Надей, наверное, слышала сквозь стенку терапевт Кумашенская… Всегда противно, если чужие слышат, а Кумашенскую он еще и не любил.
У ворот стоял Михаил Ильич, рентгенолог. Очень маленький лохматый мужчина. Таким до старости говорят «молодой человек». Шарифов подумал: «Ему бы сказать, пусть задержит…» Рентгенолог уставился на него влюбленными глазами. Шарифов спросил «для разбега»:
— Кончили работу?
— Угу. Наслаждаюсь светом, а то все время в черноте кромешной смотрю желудки изнутри. Впечатление — будто самого проглотили. А вы опять едете?
— Еду.
— Стою и завидую: едете верхом, как буденовец. Я мечтал работать в санитарной авиации. Узнаешь, где больше всего нужен, и летишь. А без стажа не берут…
— Сколько тебе лет, Миша?
— Двадцать четыре — вы же мою анкету читали. Давно, правда. Вот и полетать бы, пока песок не сыплется.
В детстве Шарифов сам мечтал быть летчиком. Он знал наизусть книгу Ассена Джорданова и колебания погоды на трассах знаменитых перелетов. Он декламировал: «Требуется хорошая голова, чтобы привести самолет прямо к месту его назначения, но надо обладать еще лучшей головой, чтобы привести его туда после того, как собьешься с пути». Он мечтал летать на Севере и читал о Севере все, что можно было найти в городской библиотеке и у товарищей. И однажды наткнулся на рассказ молодого в ту пору писателя, на рассказ о старом враче, который по радио консультировал своего неопытного коллегу, принимавшего трудные роды на далекой северной земле с нелепым названием «Огуречная». Старый врач натужно откашливался перед ящичком микрофона, а где-то далеко были две жизни.
Никаких других представлений о медицине у него не было, когда он пошел в институт. Просто чудо, что потом не пожалел о выборе.
Миша молчал, прислонившись к забору. И лошадь под Шарифовым стояла как вкопанная; наверное, чувствовала — если станет переминаться с ноги на ногу, то седок заставит бежать куда-то далеко от дома. А Шарифов думал о том, что у них случилось с Надей. И злился от ощущения беспомощности. Так у него уже было однажды — в костеле под Сандомиром. Они развернули в костеле операционную; деревянненькие католические святые неприязненно отворачивались при виде крови. Там его ранило. Грохотом заложило уши. Гигантские, тяжеленные двери распахнулись, как фанерные. Рамы, куски стекла втянуло внутрь. Задребезжала на полу лампа-«гусь» на длинной ноге, столик с инструментами. И сестра, падая навзничь, инстинктивно подняла, чтоб не запачкать, свои стерильные руки в резиновых перчатках.
Он сразу лег на раненого, закрывая его собой. Впереди, за другим столом, видел сутулую спину ведущего хирурга Брегмана. Неделю назад, после года ожиданий, Брегман забрал его наконец из госпитального взвода в операционный. Выбыло сразу трое хирургов, и он взял его, зауряд-врача, и поставил с собой в пару, чтобы учить.
По шее Брегмана поползла алая полоска, и тотчас сделался алым край халата и верхние завязки. Несколько секунд спустя Шарифов понял: когда все полетело, его самого тоже стегнуло по ноге.
Потом стало очень больно и нога словно провалилась в топь. Он накрыл рану оперируемого стерильным полотенцем и сел на пол.
Ведущий прижал к своей шее стерильную салфетку.
— По-моему, ерунда, — сказал Брегман. — Так и есть, ерунда. Наверное, стеклом по шее. На шее всегда много крови. Володька, возьми себя в руки и встань! Наступить на ногу можешь?
— Могу, — сказал Шарифов. — Только мне жарко.
— Это легкий шок.
— Наверное, перонеус задело. — Шарифову казалось, что пьянеет. — Стопа не слушается и тяжелая. — Он вдруг зло крикнул — отдалось на хорах костела: — А если шок, где же фаза возбуждения?!
Он точно поставил себе диагноз: «перонеус» — нерв был перебит, и стопа у него будет отвисать до конца. Он потом приспособился к тому, что нога плохо слушается. Так приспособился, что не всякий заметит. Так ведь не сразу!.. И разве сразу сообразишь, как приспособиться?..
Сегодня поссорились — тоже стегнуло по ногам.
Владимир Платонович дернул поводья. Лошадь пошла. Он говорил сам с собой вслух, потихоньку, у него была такая привычка — говорить с собой вслух. Она появилась за то время, которое он прожил один в той своей комнате в бывшей амбулатории.
— Надо, чтобы кто-то успокоил ее. Объяснил… Мишу нельзя просить. Может быть, кого-нибудь из женщин. Они по-бабьи поговорят. Позвоню оттуда, из Капцева. Кому только? Кавелина лежит. Вот что плохо… А зачем я зажег свет в кабинете, когда искал ключи?..
Глава третья
О ЧЕМ ПОДУМАЛ ПОПУТЧИК
Он не рассчитывал, что пробудет в Капцеве так долго. А Надя к двум часам ночи кончила собирать вещи. Правда, потом до самого утра она еще возилась с разными мелочами, перевертывая их и перекладывая, чтобы как-то занять руки, глаза и мысли. Она не хотела ни с кем видеться. Когда к ней стучали, говорила: «Нельзя. Я занята». Только тетю Глашу пустила, сказав, чтобы не говорила с ней ни о чем.
Несколько раз Надя выходила во двор — в кабинете главврача горел огонь, Надя ждала, что Шарифов вдруг тоже выйдет и они встретятся. Что было бы тогда? Она то хотела обдать Владимира холодом: пусть почувствует — могу без него! То думалось: «Выйдет — брошусь на шею и тогда придумаем что-то, что будет приемлемым для нас обоих».
Что бы это могло быть, она не знала.
Шарифов не встретился. И на рассвете Надя послала санитарку за лошадью. Тетя Глаша вернулась ни с чем: Ландыш охромел, а на второй лошади Владимир Платонович еще не приехал из Капцева. Звонил, что будет к началу приема.
Сначала Надя заколебалась. Потом решила, что Шарифов специально задержался, чтобы она понервничала подольше и сдалась. Потом она решила все-таки еще подождать.