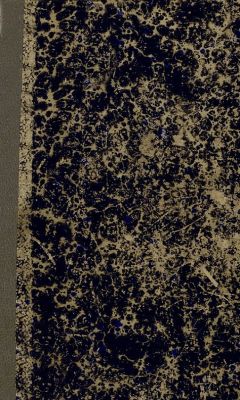— Да-съ, богатая невѣста осталась! Истинно безприданница!..
— Поди-ко, сюда полиція носу не покажетъ имущество опечатывать.
— Побоится; что все на сургучѣ останется!
— Охъ! хлопотъ-то сколько! Не знаю я, справлюсь ли, успѣю ли все обдѣлать, — жаловалась Игнатьевна, и всѣ прочіе добрые люди признались, что у нихъ дѣла много, что едва ли они успѣютъ сдѣлать все нужное.
И когда же у человѣка бываетъ мало дѣла? Помните, читатель, катъ вы торопились на-дняхъ по дѣлу, когда вамъ попался вашъ знакомый и въ теченіе часа передавалъ вамъ и о родинахъ, и о крестинахъ, и о похоронахъ у какихъ-то Ивановъ Ивановичей и Матренъ Кузьминишнъ, а другой знакомый затащилъ васъ въ кондитерскую и разсказалъ вамъ смѣшную исторію Амаліи Ѳедоровны, любовницы Василія Васильевича, съ которымъ друженъ родственникъ вашего начальника? Пропасть дѣла было у васъ въ этотъ день, страшно вы торопились.
Толпа любопытныхъ, между тѣмъ, росла. Покойника ежеминутно осматривали, приподнимали надъ нимъ простыню. Боязливые люди, осмотрѣвъ его до мельчайшихъ подробностей, разспросивъ всю его, всему дому извѣстную, исторію, трогали его за большой палецъ ноги, чтобы онъ не пригрезился имъ ночью, и сильно боялись, что патентованный способъ можетъ не помочь, какъ выдохшійся персидскій порошокъ. Они очень, очень боялись смотрѣть на покойниковъ! Мухи бродили по лицу трупа, какъ бы желая ободрить людей и сказать имъ: да смотрите, онъ и насъ нонѣ спугнуть не можетъ! Настала ночь, насталъ еще день, время шло своимъ чередомъ, шумно, дѣятельно и, признаюсь съ сожалѣніемъ, очень прозаично, безъ всякой торжественности. И помилуйте! какая торжественность можетъ быть въ смерти какого-нибудь бѣдняка Семена Мартыновича въ чаду глубокихъ соображеній? Насталъ и третій день. Черноглазая Варя въ черненькомъ ситцевомъ платьицѣ снова стояла у трупа, въ послѣдній разъ рыдала надъ своимъ отцомъ. Вотъ передъ нею закрыли его крышкою и понесли съ лѣстницы, гдѣ раздавались крики разныхъ чиновниковъ, иногда черезъ мѣру и опасно либеральные.
— „Вотъ ужъ чисто петербургская лѣстница! — кричали безумные смѣльчаки. — Каковы у насъ домохозяева-то! Ой, вы меня придавили гробомъ! Выше, выше поднимайте на поворотѣ черезъ эти проклятыя перила. На конную площадь вывелъ бы я здѣшняго хозяина!“
Наконецъ, гробъ снесли внизъ, поставили на дроги, и двѣ клячи, вѣроятно, завидовавшія участи каждаго покойника, кряхтя, потащили дроги. Чиновники обтерли съ пальцевъ приставшее къ нимъ сусальное золото и спокойно выпрямились для шествованія за гробомъ, такъ какъ ихъ ропотъ и протесты не навлекли на нихъ рѣшительно никакихъ дурныхъ послѣдствій. Все народонаселеніе большого дома было обращено въ глаза, изо всѣхъ оконъ торчали головы, матери отталкивали дѣтей, чтобы достать лучшее мѣсто, дѣти карабкались имъ на спины, чтобы увидать хоть что-нибудь, на дворѣ была давка. Въ воротахъ вся толпа засуетилась, заговорила, загалдѣла и остановилась; въ заднихъ рядахъ люди встали на цыпочки и закинули кверху головы, чтобы дальше видѣть.
— Что такое случилось? Почему не ѣдутъ дальше? — кричали взволнованные голоса.
— Нельзя. Иваниху везутъ. Подождать надо, — перебѣгало по рядамъ.
— Худая примѣта. У дворницкой остановились. Помереть дворнику, — рѣшила сдесарша.
— Ну, вотъ еще! Это по причинѣ лошадей остановили, а не онѣ сами по себѣ остановились, — заспорила другая баба.
— Это все равно.
— Все равно, да не одно!
— Экая умная! всѣ порядки знаетъ, тебѣ вѣрно кульера прислали съ депешой, — озлилась слесарша.
— Ну, да, кульера!
— Усь, усь, хвати ее за космы-то! — крикнулъ халатникъ-мастеровщина.
Бабы напустились на него. Неизвѣстно, чѣмъ бы это кончилось, если бы дроги не тронулись, и самихъ бабъ не увлекла все увлекающая за собою толпа.
— Взгляни на эту праздную чернь, — говорила генеральша своему сыну, выходя съ лорнетомъ въ рукѣ на балконъ и раздвигая дорогіе цвѣты. — Чего сбѣжались смотрѣть? Похоронъ не видали! И это въ будни, когда у нихъ работа стоитъ. Послѣ этого жалѣй ихъ, сочувствуй ихъ нуждамъ!
— Кто же не знаетъ теперь, что они лѣнтяи, тунеядцы? дураки одни могутъ имъ сочувствовать, — отвѣтилъ сынъ, выдвигая голову за рѣшетку балкона.
— Вонъ генеральша съ сыномъ на похороны смотритъ, — говорили въ толпѣ глупой черни, указывая на балконъ и не зная, что никакая генеральша не унизится до такого глупаго любопытства, что ей нѣтъ на это времени, и что она интересуется не похоронами, а просто желаетъ на дѣлѣ убѣдиться въ грубости, праздности и отвратительныхъ привычкахъ черни. Съ этою же цѣлью оторвался отъ своихъ великихъ трудовъ и подошелъ къ окну на зовъ своей жены одинъ изъ нашихъ славныхъ писателей, жившій въ домѣ; но геній, какъ это всегда случается, не былъ замѣченъ толпой…
Между тѣмъ, тѣло Семена Мартыновича поѣхало за богатымъ погребальнымъ поѣздомъ купчихи Ивановой, точно и его назначили для увеличенія и безъ того длинной процессіи. Впрочемъ, Игнатьевну и ея вассаловъ радовало это стеченіе обстоятельствъ.
— Вотъ ужъ не ждалъ онъ, голубчикъ, что ему такое счастье выпадетъ. И попы-то, и пѣвчіе впереди идутъ, путь ему въ царствіе небесное указываютъ, — говорила жалобнымъ голосомъ капитанша.
— Да, да, не всякій такого счастья дождется, — соглашалась какая-то особа въ поношенномъ салопѣ, приставшая по дорогѣ въ провожатымъ. — А что, видно, онъ бѣдный былъ?
— Охъ, ужъ и не говорите! Меня спросите, видѣла я его нужды-то. Штаны самъ себѣ шилъ, носки штопалъ!
— Охъ ты, Господи, чиновникъ-то!.. Сиротъ вѣрно оставилъ?
— Да, вонъ дочь идетъ…
— А мальчикъ-то, емназистъ, что съ ней идетъ, тоже сирота, племянникъ какой-нибудь?
— Нѣтъ, это чужой ей, это мой сынишка, — сказала капитанша.
— Мм!.. Ну, а насчетъ судьбы-то дочери сдѣлать онъ распоряженіе?
— Какое распоряженіе? Началъ онъ ей, должно-быть, наставленье читать. „Но живи…“ — говорить, — да и замолчалъ; кашель началъ его душить. Мы ужъ и то, и другое, — поотдохнулъ. Спрашиваемъ: „Семенъ Мартыновичъ, ты, батюшка, что-то сказать хотѣлъ Варѣ“ — Рукой замахать. Мы и то, и се, — Молчитъ; вѣрно языкъ у него отнялся… или что. Такъ и не знаетъ она, наша голубушка, что онъ ей сказать хотѣть. Не живи! Вотъ теперь и догадывайся, что онъ думалъ. Не живи! А какъ не жить, если самъ ей жизнь далъ? Руки на себя наложить, что ли? Такъ для этого и родиться не стоило. Не живи! вотъ оно слово-то!
А дроги все подвигались впередъ…
Отпѣли купчиху Иванову въ особенной церкви, Семена Мартыновича въ общей, и обоихъ зарыли въ одинаково тѣсныя, въ одинаково темныя и безотвѣтныя могилы. Гости поѣхали въ собственныхъ экипажахъ, на наемныхъ дрожкахъ и потащились пѣшкомъ на поминки. Много высказала разныхъ глубокихъ соображеній у Ивановыхъ и не менѣе того у Игнатьевны.
— И умеръ то онъ, голубчикъ, въ экое время, весною, когда жильцовъ и собаками не отыщешь, такъ и разсчитывай, что два мѣсяца комната простоитъ пустая, — говориза Игнатьевна, въ которой на минуту проснулись эгоистическіе расчеты. Потомъ опять пришла ей на умъ продажа имущества для помощи Варѣ. — Боюсь я, послѣ покойника платья не купятъ. Всякій боится, знаетъ, что оно тлѣетъ на человѣкѣ, лѣзетъ и разлетается, точно кто-нибудь силой тайною тянетъ его и снизу, и сверху, и въ стороны…
— Ахъ, это преданіе! — опечалилась своимъ собственнымъ сомнѣніемъ маіорская дочь.
— Ну, ужъ нѣтъ-съ! это извѣстно, что сорокъ дней душа-то къ мукамъ приготовляется, по землѣ летаетъ, ни въ раю, ни въ аду, и это она-то и дѣлаетъ.
— Вы только свѣшайте его на вѣсахъ, да замѣтьте, сколько вѣсу, такъ все какъ рукой снимете. Это дѣло всѣхъ извѣстное, — утѣшила капитанша.
— Вотъ мы теперь тутъ разсуждаемъ, а его душа, можетъ-быть, здѣсь носится, грѣхи свои оплакиваетъ, молитвъ нашихъ грѣшныхъ проситъ. Все-то ей теперь ясно, и вражда ваша, на грѣхъ ее наводившая, и прегрѣшенья старыя. Гнѣвно смотритъ она теперь на насъ, искусителей. Охъ, тяжко ей, бѣдной! — расчувствовалась Игнатьевна, у которой сочились слезы сожалѣнія за бѣдную душу. — Разскажите-ка намъ, какъ это тамъ вы по божественному знаете, — обратилась она къ читальщику, наливая ему рюмку водки изъ пустѣвшаго штофа.
Читальщикъ выпилъ, крякнулъ и замогильнымъ голосомъ началъ разсказывать замогильныя тайны, точно онъ самъ недавно вернулся изъ далекаго путешествія на тотъ Свѣтъ…
Вечеръ тихо наступалъ и бросалъ тѣнь на окружающіе предметы… Особенно чутко и болѣзненно вслушивался въ гробовые разсказы отставного дьячка маленькій гимназистъ, сынъ капитанши, прижавшійся съ матери и косо поглядывавшій за полурастворенную дверь, за которой была тьма. Изрѣдка заставляли его вздрагивать возившіяся въ кухнѣ куры… Одно, повидимому, главное лицо молчало и не то прислушивалось къ рѣчамъ, не то о чемъ-то размышляло. Это лицо — была Варя.