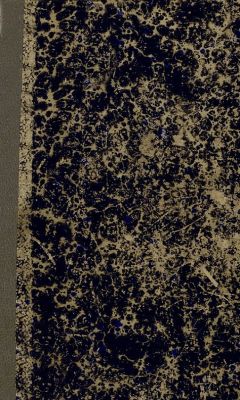— Награди васъ Богъ за вашу добродѣтель, а то что ей болтаться-то дома, вѣдь тоже не скоро въ магазинъ ее опредѣлишь…
— Въ какой магазинъ?
— Къ портнихѣ какой-нибудь отдать хотимъ.
— Развѣ вы и она родныя?
— Гдѣ намъ, матушка-мадамъ, вѣдь она благородная.
— Что же ея родные?
— Какіе родные? У нея одинъ Отецъ Небесный, всѣхъ насъ грѣшныхъ Заступникъ, родной, — отвѣтила Игнатьевна и, перекрестившись, высморкала носъ концомъ шерстяного шейнаго платка.
— Гм! — задумчиво произнесла Скрнницыпа, постояла съ минуту и, кивнувъ головой, пошла въ свою комнату.
Игнатьевна взялась за ручку двери, чтобы уйти, когда Скрипицына съ порога дверей обернулась къ ней и сказала:
— Ты подожди отдавать ее въ магазинъ. Я подумаю, можно ли это.
— Будьте мать родная! подумайте, матушка-мадамъ, подумайте. Ужъ мы и ума не приложимъ, что съ ней дѣлать, мы вѣдь люди темные. Вотъ, говорятъ, что ее въ анституть можно отдать, да поди, сунь-ка носъ туда наша сестра, такъ какой-нибудь тамъ пѣтухъ индѣйскій, швейцаръ, булавою своей шею накостыляетъ, вотъ тебѣ и будетъ анститутъ, наука: не суйся, ворона, въ высокія хоромы! Вѣдь не на улицу же ее, бѣдную, выбросить, чтобъ подобрали да призрѣли! — разсуждала Игнатьевна, не замѣчая, что двери школы давно закрылись за нею, и что она, Игнатьевна, уже шагаетъ по лѣстницѣ, возвращаясь въ свое феодальное государство.
Mademoiselle Skripizine медленно походила по своему кабинету, поправила разныя вещицы на себѣ и на своемъ столѣ, оборвала три желтыхъ листа съ цвѣтовъ, пощурила для практики глаза и, наконецъ, услышавъ бой часовъ, приняла такое безстрастное выраженіе лица, какъ будто приготовлялась позировать въ роли статуи правосудія, и пошла въ классы. Тамъ уже собрались дѣвочки и тихо шушукались между собою, но едва пошевелилась ручка двери, какъ шушуканье утихло, и въ комнатѣ можно было разслышать одно шуршанье шелковаго платья наставницы и легкую поступь французскаго учителя. Наставница осмотрѣла классъ и ровнымъ голосомъ произнесла:
— Mademoiselle Rabon, priez!
Рабонъ стала читать молитву на французскомъ языкѣ, какъ это дѣлалось всегда передъ французскимъ урокомъ. Утреннія занятія начались. Дѣвочки удивлялись присутствію наставницы, что бывало только во время экзаменовъ. Уже нѣсколько разъ прозвучало въ классѣ: Adam, redoutant la présence de Dieu и т. д, когда пришла очередь отвѣчать Варѣ. Она начала говорить урокъ; mademoiselle Skripizine вся обратилась въ слухъ, поправляла ученицу на каждомъ грубо произнесенномъ le и r, не похожемъ на r Людовика XIV. Потомъ спросила дѣвочку:
— Сколько тебѣ лѣтъ?
— Четырнадцатый годъ.
— Покажи мнѣ твою тетрадь для диктовки.
Варя показала наставницѣ тетрадь съ розовыми листиками протечной бумаги и бѣлыми атласными ленточками. Наставница сочла всѣ ошибки, подвела имъ итогъ, посмотрѣла издали на почеркъ и замѣтила:
— Ты пишешь писарскимъ почеркомъ, женщина не должна такъ писать. Это не принято. Садись!
Классъ кончился.
— Mesdames, Скрипицына сказала Крыловой: ты, — кричали дѣвочки другъ другу.
— Почему она сказала ей: ты? Не будетъ ли она и намъ говорить: ты?
— Я сама скажу ей: ты! Меня maman возьметъ послѣ этого изъ ея пансіона.
— Меня и то бранили за то, что я рубля мѣдными деньгами не могу отсчитать.
Приходъ жиденькой гувернантки и начало рукодѣльнаго класса прервали этотъ шумъ, въ которомъ Варя, по обыкновенію, играла роль безмолвнаго существа, что начинаетъ тревожить меня за ея умственныя способности. Въ половинѣ класса явилась Скрипицына и спросила работы Вари. Осмотрѣвъ разныя вышитыя подстилки подъ колокольчики и лампочки, бисерные кошельки и воротнички, наставница сдѣлала нѣсколько замѣчаній и, когда классъ кончился, сказала Варѣ:
— Иди обѣдать съ пансіонерками!
Варя повиновалась, не спрашивая ничего, ни о чемъ не разсуждая. Послѣ обѣда начались вечернія занятія; Варя снова подверглась экзамену; кончился и онъ, дѣвочка собралась идти домой.
— Иди заниматься съ пансіонерками! — приказала содержательница школы.
Ученица повиновалась. Между пансіонерками начался шопотъ. Въ комнатѣ носился чадъ глубокихъ соображеній. Насталъ ужинъ. Послѣ ужина госпожа Скрипицына позвала горничную и велѣла привести Варю. Варя явилась тихая, робкая и стала у дверей извѣстнаго читателю кабинета. Со стѣны тайный совѣтникъ со звѣздой смотрѣлъ съ любопытствомъ на дѣвочку, козетка гордо загораживала ей путь.
— Подойди сюда, — произнесла Скрипицына и зорко осмотрѣла походку Вари. — Тебя хотятъ отдать въ магазинъ къ портнихѣ. Ты благородная, а тамъ живутъ простыя дѣвчонки. Какая-нибудь баба, въ родѣ той, у которой ты жила со своимъ отцомъ, — при словѣ «отецъ» Варя начала тихо плакать, — какая-нибудь баба, говорю я, считаетъ столь же возможнымъ бросить дочь дворянина въ этотъ омутъ безнравственности, неприличій и грязи, какъ высморкать свой носъ въ шерстяной шейный платокъ. — Наставница пріостановилась, чтобы дать понять Варѣ силу своей собственной наблюдательности. — Но благородные люди думаютъ иначе. Ихъ святой долгъ, ихъ обязанность спасать отъ гибели равныхъ или, по крайней мѣрѣ, почти равныхъ съ ними. Они готовы жертвовать собою для спасенія другихъ. Это высокое нравственное преимущество развитыхъ надъ неразвитыми, благородныхъ надъ неблагородными. Я рѣшилась пожертвовать долею своего спокойствія, чтобы спасти тебя. Ты остаешься у меня.
Варя, которую такъ же не изумила эта рѣчь, какъ слово ты, сказанное ей впервые въ этотъ день наставницею, тихо плакала и молчала. Госпожа Скриппцына ждала и была въ правѣ ждать экзальтированныхъ благодарностей, слезъ умиленія и восторга, но загрубѣвшій между неблагородными людьми ребенокъ остался неподвиженъ и тупоумно хныкалъ Богъ знаетъ о чемъ, хныкалъ передъ зарею новой жизни и яркаго счастья. Это немного смутило и оскорбило наставницу.
— Тебя хотятъ отдать въ магазинъ, — начала она снова своимъ ровнымъ, холоднымъ, какъ приговоръ судьбы, голосомъ. — Другого исхода для тебя нѣтъ. Никто въ цѣломъ мірѣ,- ты знаешь, что міръ состоитъ изъ нѣсколькихъ сотенъ милліоновъ людей — пойми же это хорошенько! — никто, рѣшительно никто изъ этихъ сотенъ милліоновъ людей не думаетъ, не заботится, не хочетъ заботиться о твоей судьбѣ. Ты всѣмъ имъ чужая, — что я говорю! — ты просто не существуешь для нихъ. Если тебя выбросятъ на улицу, то ты пробудешь на ней часы, дни, ночи, тебѣ даже не подадутъ гроша, какъ нищей, потому что каждый подумаетъ: негодница, на пряники просить! Ты навѣрное слышала эти слова даже отъ своего отца, когда у него просили милостыни дѣти. Правда: ты слышала?
— Слышала, — глухо прошептала Варя.
— Я и не сомнѣвалась. Всѣ это слышали. Нѣтъ человѣка, который бы не слыхалъ этого… кто скажетъ, что не слыхалъ, тотъ солжетъ… Итакъ, ты проходишь одна до тѣхъ поръ, пока не упадешь отъ голода, отъ изнеможенья, отъ злобы, и тогда тебя подберетъ какой-нибудь пьяный, грубый полицейскій солдатъ, чтобы отвести тебя, какъ бродягу, въ полицію, гдѣ содержатъ воровъ, нищихъ, пьяницъ. Они встрѣтить тебя наглымъ смѣхомъ, и едва ли ты спасешься отъ гибели… О тебѣ публикуютъ въ газетахъ, будутъ ждать, когда явятся родственники. Ихъ у тебя нѣтъ… И тогда — тогда тебя отправятъ въ нищенскій комитетъ, пройдутъ дни, недѣли, мѣсяцы, прежде чѣмъ тебя бросятъ въ какой-нибудь пріютъ не имѣющихъ родни, неблагородныхъ дѣтей. Но и для этого людямъ нужно прежде выбросить тебя на улицу, ихъ эгоизмъ не позволяетъ имъ сдѣлать это: испорченные, загрубѣлые, они, все-таки, боятся позднихъ упрековъ совѣсти и вотъ тебя хотятъ отдать въ магазинъ…
Скрипицына выпила стаканъ воды, можетъ-быть, было бы не худо выпить воды и Варѣ, но она не попросила, да и графинъ, по несчастному стеченію обстоятельствъ, былъ пустъ.
— Но знаешь ли ты, что значить быть ученицей въ магазинѣ, какая тамъ жизнь? Тамъ тебя не будутъ учить ничему, рѣшительно ничему, что дѣлаетъ человѣка человѣкомъ, равняетъ его съ ближними, тамъ даже не научатъ тебя необходимымъ каждому христіанину истинамъ религіи, — на это зло никто не обращаетъ вниманія, хотя и требуютъ нравственности отъ этихъ людей, — и ты, можетъ-быть, будешь молиться Богу по привычкѣ, по инстинкту, но ты не будешь знать, что такое Богъ? Ты, можетъ-быть, и не развратишься, но отъ этого удержитъ тебя случай, а не сознаніе, что это грѣхъ, что это порокъ! Зато тебя заставитъ шить, цѣлый день шить, и если понадобится какой-нибудь другой богатой женщинѣ къ спѣху бальное платье, то тебя заставятъ шить и ночью въ грязной, сырой, душной комнатѣ, почти въ подвалѣ, набитой до-нельзя злыми, оборванными, простыми дѣвчонками, дочерями кухарокъ, дворничихъ, прачекъ, солдатокъ… Ты будешь спать на одной постели съ десяткомъ этихъ дѣвчонокъ, больныхъ, покрытыхъ слоемъ грязи, заѣденныхъ насѣкомыми, будешь дышать зараженнымъ ими воздухомъ и, чтобы не зябнуть въ холодныя зимнія ночи, прижмешься къ этимъ дѣвчонкамъ, будешь грѣться ихъ ядовитой теплотой…