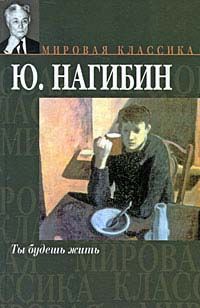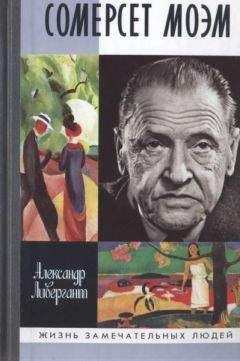Счастливчик Джонс! Ко всем прочим достоинствам природа наградила его привлекательной и оригинальной внешностью. Будучи чистокровным англичанином, хотя нет ничего более зыбкого, ненадежного, чем чистота крови, ибо как за ней уследишь? — он являл собой полное отрицание англосаксонского типа. Многие думали, что его просторное лицо покрывает вечный африканский загар, нет, он был смуглым от рождения, а смуглота отливала кирпично-красным, что еще усиливало его сходство с индейцем: крупный нос с горбинкой, белые острые клыки, удлиненные глаза под тяжелыми веками, широкие крепкие скулы — ни дать ни взять цивилизованный Чингачгук. Он рано облысел, но ему это шло: обнажился совершенной формы крупный череп с мощным сводом лба, округлым затылком и гладким теменем, обтянутый коричневой глянцевитой кожей; черные, сухие, тщательно зачесанные с висков волосы придавали завершенность великолепному абрису головы. У него были широкие, чуть покатые плечи, плотная фигура без унции жира. Для того чтобы создать его внешность, смеясь, говаривал Джонс, одной из его прабабушек пришлось согрешить с последним из могикан, на худой конец, с сыном племени навахо, сиу или кроу. Что, кстати, представлялось возможным, поскольку предки Джонса устанавливали, отстаивали и утрачивали владычество Британии на всех материках. Среди них имелись воины, администраторы, миссионеры.
Своеобразная внешность Джонса являлась его личным достоянием, и родители, и деды были типичными англосаксами: бледными, высокими, худыми. Не передались его черты и единственному сыну, которого он любил почти так же, как свою науку. Мальчик все взял от матери: здоровую матовую бледность кожи, синие глаза под темными ресницами, золотисто-рыжеватые волосы. Смущали Джонса его узенькие плечи и некоторая слабогрудость. Но то был очень здоровый, выносливый и спортивный мальчик с нежной долгой улыбкой, от которой у Джонса все замирало внутри. Это была улыбка доброго и незащищенного человека, это была улыбка матери мальчика, которую безнадежный однолюб Джонс обречен любить до последнего вздоха. Его радовало, что сын — весь в мать: черты лица, сложение, краски — все ее. Но каким-то таинственным образом и он проник генами в столь несхожую с ним плоть. Даже ненаблюдательному человеку мгновенно становилось очевидным, что хрупкий, светлый, эльфический подросток — единая кровь с коренастым меднолицым крепышом. Поворот головы, извиняющаяся улыбка, какой он искупал внезапный провал в себя посреди общей беседы, наклон головы к плечу, когда что-то в окружающем соглашалось стать милым, трогательным, интонации доверия, даже резкое отклонение корпуса при теннисной подаче — все было отцовским. Как и рыцарственное отношение к матери.
Эта милая, красивая женщина жила в атмосфере неустанного поклонения. И большой и маленький мужчина вели себя так, словно она фарфоровая хрупкость, которую надо непрестанно оберегать. Они вскакивали при ее появлении, угадывали каждое ее желание, окутывали сетью заботливых жестов, словно незримым покрывалом; за семейными трапезами превосходили друг друга в церемонной предупредительности. Так на сцене «делают» королев актеры-придворные, сыграть собственное величие невозможно. Но Мери Джонс вовсе не привлекал трон, ей хотелось бы поменьше почтительности, поменьше ухаживаний, поменьше опеки и побольше семейной простоты, непосредственности, товарищества с самыми близкими людьми, даже небрежности, несогласия, спора — во всем этом больше теплоты, нежели в чопорном обожании. Нельзя быть всегда при параде. Когда кто-то из них недомогал, она почти радовалась, рыцари хоть на время расставались с доспехами и она могла помочь их недужащей плоти, могла быть полезной родным людям.
В остальной жизни ее доброта не находила себе применения. А доброта была единственным даром этой милой, мягкой, скромной, созданной для котурн женщины. Она принадлежала к средним классам, удобно чувствовала себя в роли учительницы начальной школы, где ее доброта, жалость к малым и слабым, не знающее срывов терпение находили широкое поле для применения. Случайно на нее наткнулся Джонс, влюбился с первого взгляда и сделал предложение. Он ей тоже нравился, и, не имея сколь-нибудь отчетливого представления о его характере, занятиях и жизненном положении, она дала согласие. Стремительно взлетев по социальной лестнице, она вначале озадачилась, смутилась, но постепенно и без особого труда свыклась с новизной: быть спутницей многообещающего ученого, хозяйкой большого дома оказалось куда приятнее, чем бедной училкой. Ее очень женственная, а стало быть, пластичная натура легко приспосабливалась к любым обстоятельствам, формам быта и отношениям. Первая очарованность необыкновенным, чуть загадочным человеком с красной, как у индейца, кожей перешла в спокойную, преданную любовь.
У Мери были чудесные глубокие темно-синие глаза, но еще заметнее на красивом лице был яркий, свежий рот. Его часто сминала непроизвольная гримаска жалости, сострадания. Ее добрая душа все время получала неслышимые другим сигналы бедствия из окружающего. Если верить ее сминающимся печалью и тайным страхом губам, мир гибельно бедовал, все наполняющее его своим дыханием — от человека до дерева или цветка — взывало к спасению. Джонс чувствовал разрывающую родное сердце доброту и томился невозможностью доказать, что не надо так тратиться: люди в подавляющем большинстве не заслуживают да и не хотят жалости, животные обречены, а неодушевленная материя сама разберется с «венцом творения», которого сотворила для своего познания и уберет в должный срок. Его попытки что-либо объяснить ни к чему не вели, Мери неспособна была к отвлеченному мышлению. На все мудрые и мудреные слова она лишь послушно кивала, а губы продолжали сминаться болью. Муж не давал жалеть себя, а как откликнуться темным сигналам мирового неблагополучия? Неухоженные дети бедняцкой школы требовали участия и заботы, а здесь ее окружали выхоленные люди. Джонс правильно решил: единственное спасение — деньги, он записал Мери в разные благотворительные общества, выделив из семейного бюджета порядочную сумму в помощь нуждающимся. Пусть это было совсем не то, к чему стремилась ее душа, все же оно давало некоторое облегчение.
Джонс и сам был добрым человеком, но в разумных пределах, его доброта ничем ему не грозила. А жене грозила, и он не поступался тяготящими ее перенапряженностью и церемонностью быта, чтобы хоть немного подсушить ей душу. Внешнее поведение влияет на внутреннюю суть человека, и если б миссис Джонс не сдерживали домашние ритуалы, почти равные религиозным обрядам, путы неукоснительного порядка и многочисленных обязанностей, ее поглотила бы бездна чужих мук и горя, разверстая у самых ног. Уплотненный день: домашние хлопоты, заботы о большом открытом доме, о муже, потом и о сыне, ежевечерние приемы, посещение театров, музеев, выставок, концертов, заседания благотворительных комитетов с непременным чаем и с сухим печеньем — служил противоядием изнуряющей душу доброте.
Рассказ о семье Джонсов носит сугубо локальный характер, историческим событиям уделяется место, если они имеют прямое отношение к этой маленькой человеческой ячейке. Первая мировая война такое отношение имела: дала занятие миссис Джонс и оттянула неминуемое. Корпии, которую нащипала трудолюбивая Мери, хватило бы еще на одну битву народов. А за мужа она не успела испугаться: лейтенант Джонс вернулся из Франции с перебитой рукой, когда англичане еще толком не осознали, что воюют. Кость срослась, и рука вернула прежнюю подвижность в самом исходе войны.
А дальше пошло все то же, нет, куда хуже: Джонс стал надолго уезжать в далекие экспедиции. Пока рядом был сын, Мери не чувствовала пустоты, она слишком любила его и входила — ненавязчиво, тонко — во все детские, потом и отроческие увлечения. Но когда сын поступил в колледж и уехал в Оксфорд, ей стало невмоготу. Она ринулась на передний край приложения собственной благотворительности — в трущобы. Это скрадывало время, но ее преследовало чувство какой-то скользкой неправды. Похоже, ей попадались профессиональные бедняки: их нищета была напоказ, благодарность преувеличена, смирение и праведность отдавали лицемерием и скрытой насмешкой, к тому же от всех взрослых (старше пятнадцати) несло джином и кукурузным виски, а от малолетков — пивом. Ей всегда было немного стыдно, а главное, она подозревала, что ее помощь проходит в стороне от истинной нужды.
Какая-то часть души тратилась на страх за сына и мужа, на ожидание их приезда. Телефонный звонок из Оксфорда, письмо с яркой африканской маркой дарили ее счастьем на целый день. Не желая быть счастливой в одиночку, она приглашала в гости своих старых подруг, таких же, как некогда она сама, школьных учительниц, а потом долго плакала в постели, не понимая, за что они так ее ненавидят.