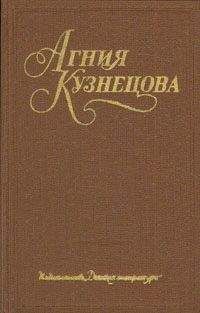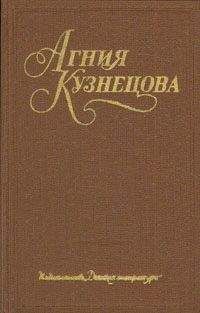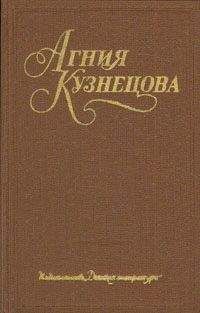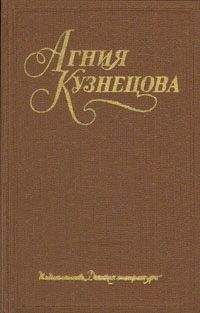Ознакомительная версия.
– Н-н-ет!
– Значит, тоже стыдно, – тоном, не допускающим возражения, сказала Ната.
По двору, припадая на правую ногу, прошла высокая толстая старуха в очках. Она осторожно несла что-то в переднике.
Обе девочки приветливо поздоровались с ней.
Старуха на минуту задержалась, улыбнулась, и во рту ее блеснули белые, совсем молодые зубы.
– Сегодня уезжаете? – спросила она Дину низким, почти мужским голосом, сдвигая очки на кончик носа и посматривая исподлобья.
– Едем, Семеновна! – ответила Дина.
– С подружкой проститься пришла? А тебя давеча Костя Зарахович спрашивал.
«И она о Косте!» – с досадой подумала Дина и почувствовала, что у нее горят уши.
– Он, кажись, на школьном дворе, – продолжала Семеновна, внимательно приглядываясь к смущенному лицу девочки.
В это время из-за забора появилась кепка причудливой формы, затем она скрылась. Немного погодя показалась круглая, стриженая голова Мирошки. Должно быть, он на чем-то стоял за забором. Он нарочно громко откашлялся, помахал над головой балалайкой с порванной струной и, кривляясь, сказал:
– «К Дине». Романс Зарахович. Музыка – экспромт Мирона Подковыркина. Исполняет он же.
Мирошка запел нежным голосом:
Караван наших дней быстрокрылый
Улетает и тает, как дым…
Знаю, в сердце, что есть и было —
Навсегда оставляет следы.
Семеновна строго взглянула на Мирошку и, припадая на правую ногу, подошла к забору:
– Ну-ка, слазь, Мирон! Что у тебя, совести, что ли, нет – посмешищем всем служишь? Мне, старой, за тебя совестно!
Девочки ждали, что Мирошка нагрубит Семеновне, но неожиданно он натянул на глаза подобие кепи, что-то буркнул и исчез.
Семеновна сердито одернула платок на голове, передвинула очки с кончика носа на обычное место и пошла дальше.
Девочки молча смотрели ей вслед. Школьную сторожиху Семеновну любили и уважали не только дети, но и взрослые. Дети любили ее больше своих учителей, любили за то, что она жила интересами школьников.
Как-то Семеновна позволила себе вмешаться в дело 6-го «А» и встать на защиту самого шаловливого ученика. Это случилось незадолго до дня рождения Дины.
Плохая дисциплина и неуспеваемость в классе Мирошки Подковыркина вынудили пионерскую организацию поставить вопрос о нем на собрании отряда. Мирошка выступил и, ломаясь, сказал, что виною всему его нелепая фамилия. Ей он обязан своим поведением, и пока он носит ее – изменить свое поведение он не может, а галстука пионерского (если его исключат) все равно не снимет, так как он ему к лицу.
Выступлением Мирошки пионеры были возмущены и единогласно постановили Подковыркина из пионерской организации исключить.
Семеновна в это время кипятила титан в соседней комнате и слышала, что говорили на собрании отряда.
Прихрамывая, вошла она в комнату. Очки ее ютились на кончике носа, а глаза поверх них смотрели строго.
– Ну-ка, дайте старухе слово сказать, – попросила она вожатую Галю.
Галя молчала, соображая, допускается ли уставом выступление сторожихи на собрании отряда. Семеновна молчание председателя сочла за согласие и начала говорить:
– Вы, ребята, его не слушайте. Это он глупостями такими стыд свой прикрывает. Изломался парень и по-другому теперь не может, хочет, да не может. Вы его от себя не гоните, так хуже будет. Ему сейчас стыдно, а стыд да горе человека учат уму-разуму. Я, старуха, за него слово вам дам, авось седины мои срамить не станет.
Мирошка стоял, облокотившись на подоконник, водил пальцем по стеклу и делал вид, что не слушает слов Семеновны, но все видели, что он не только слушает, а даже волнуется, и это настраивало всех в пользу Мирошки.
Семеновна продолжала:
– Вы Мирошку не отпевайте, крест над ним не ставьте. Я жизнь прожила, знаю, что из таких вот ребят люди что надо получаются. Поломается, обхолонется и человеком будет. – Она помолчала и нерешительно добавила: – Людей жалеть, любить надо.
– Всех? – задорно спросила Ната.
– Всех, до самого последнего, – с убеждением ответила Семеновна.
– И врагов? – ехидно полюбопытствовала Варя.
– И врагов жалеть надо, – ответила Семеновна и поторопилась уйти. Она знала, что сейчас поднимется невероятный шум и спор. Так бывало не раз, когда она пыталась доказать, что главное в жизни любовь и всепрощение. Этот ее взгляд ребята решительно опровергали.
Вмешательство Семеновны подействовало. В протокол записали Мирошке строгий выговор с предупреждением, но в пионерской организации оставили.
После этого Мирошка притих, стал лучше учиться, но ломался по-прежнему, так и звали его все шутом гороховым.
Исполняя свой романс на заборе, Мирошка не рассчитывал на встречу с Семеновной.
Когда подруги остались одни, Дина возобновила прерванный разговор.
– Вот все и клонится к одному, – сказала она, – дружить с мальчиком стыдно. Если открыто дружить – взрослые сердятся, сверстники смеются. Скрывать – друзья обижаются, – она мимолетно взглянула на Нату, – да и все равно узнается. – Она встала и безнадежно махнула рукой. – Ну, я пошла. Через час ехать. Что-то не хочется, Ната.
– А к Косте не зайдешь?
– Не зайду… Ты ему скажи… Нет, лучше, я напишу, а ты отнеси. Хорошо?
Дина достала из кармана блокнот и написала:
Костя! Я уезжаю на все лето. Настроение очень плохое. Мы с тобой больше не должны встречаться. Дина.
P. S. Я еще не поблагодарила тебя за стихи. Спасибо, Костя. Мне они очень понравились, хотя из-за них мне было много неприятностей… Больше для меня не пиши.
Дина отдала записку Нате, поцеловала подругу в щеку и пошла домой.
* * *
Екатерина Петровна только что кончила сборы. Она сидела за столом усталая, но веселая, в сером халате с засученными рукавами. В полной белой руке она держала недокуренную папиросу, другой рукой гладила волосы сидевшего у нее на руках Юрика.
Большие синие глаза Юрика, в точности как у матери, покраснели от частых слез. Нос и пухлые розовые щеки были разрисованы грязными полосами. Белая рубашка на груди почернела, вымокла, утром одевался он сам, без помощи старших, и сандалию с правой ноги надел на левую, а с левой на правую.
– Ну, весь город обегала? – спросила Екатерина Петровна.
В голосе ее Дина уловила досаду и промолчала.
– Со всеми простилась?
– Нет, только с Натой.
– А с Костей?
– Костю не видела, – грустно сказала Дина.
Отец бы заметил печальный голос дочери. Но мать была менее внимательна. Она встала, подвела Юрика к умывальнику и начала мыть его.
Малыш снова расстроился и заревел на весь дом. Голос у него был сильный и звонкий, плакал он всегда так громко, что его было слышно через дорогу, в доме Дининой учительницы, Зои Николаевны. Семилетняя Танюша, дочь Зои Николаевны, часто в такие минуты перебегала дорогу, забиралась на забор затеевского сада и кричала насмешливо:
– Юрик, перемени пластинку!
Услышав ее голос, Юрик моментально стихал и громко говорил:
– А?
– Перемени пластинку! – со смехом кричала Танюша.
Юрик понимал, что его дразнят, и снова начинал реветь.
Теперь в самый разгар рева на террасе послышались легкие, бодрые шаги. Юрик замолчал из любопытства.
В комнату вошел отец и, заложив руки за спину, быстро зашагал взад и вперед. Иннокентий Осипович редко бывал не в духе, но когда это случалось, весь дом погружался в уныние. Дина старалась не попадаться отцу на глаза, Екатерина Петровна молчала, затихал и Юрик.
– Вот подлец, прохвост! – возмущенно ругал кого-то Иннокентий Осипович.
Дина мельком взглянула на отца и заметила, что он свежевыбрит и напудрен. Она ощутила резкий запах одеколона, распространившийся по комнате.
– В чем дело? – снова опускаясь в кресло и закуривая, спросила мужа Екатерина Петровна.
Иннокентий Осипович остановился около нее и раздраженно сказал, наклоняясь к ней:
– Я всегда удивляюсь, отчего ты никогда ничего не замечаешь!
Она удивленно развела руками и покачала головой. Юрик поднялся на цыпочки, вытянул шею и молча начал разглядывать отца.
Сбоку заглянула Дина и ахнула:
– Брови обрезал!
Иннокентий Осипович повернулся к дочери и, точно она одна могла сочувствовать ему, возмущенно сказал:
– Подумай, Дина, этот прохвост-парикмахер проделал все, не спросив меня.
Екатерина Петровна сначала улыбнулась, потом закрыла лицо рукой, и все ее большое полное тело затряслось от сдерживаемого смеха.
Дина взглянула на мать и звонко, заразительно рассмеялась на весь дом.
Иннокентий Осипович удивленно посмотрел на жену, на дочь и сердито вышел из комнаты, хлопнув дверью.
Затеев был очень некрасив, но никто никогда не замечал этого, вероятно потому, что на лице его светились умные, живые глаза. Но, по мнению Затеева, самым оригинальным в его лице были брови. Они действительно были необычны – густые, с длинными волосами. По утрам он любовно разглаживал их перед зеркалом, поворачиваясь в профиль, шевелил ими, как таракан усами.
Ознакомительная версия.