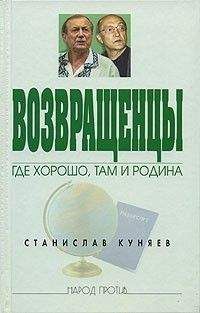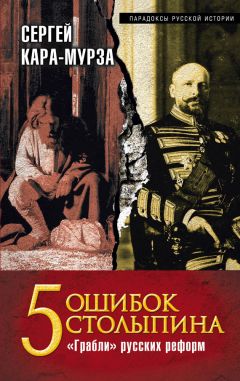Гарь прошла и по семье. Дядя Прасковьи Дмитриевны - "дед Кондра-тий" - погиб в самосожженческом срубе с другими ревнителями древлего благочестия. Самосожжение повелось ещё с никоновских времён и усугубилось в иоакимовские, в эпоху царевны Софьи - и от чего спасались ревнители древлеправославия - живописал Фёдор Евфимьевич Мельников:
"Правительство беспощадно преследовало людей старой веры: повсюду пылали срубы и костры, сжигались сотнями и тысячами невинные жертвы - измученные христиане, вырезали людям старой веры языки за проповедь и просто за исповедание этой веры, рубили им головы, ломали рёбра клещами, закапывали живыми в землю по шею, колесовали, четвертовали, выматывали жилы… Тюрьмы, ссыльные монастыри, подземелья и другие каторжные места были переполнены несчастными страдальцами за святую веру древлеправославную. Духовенство и гражданское правительство с дьявольской жестокостью истребляло своих же родных братьев - русских людей - за их верность заветам и преданиям святой Руси и Христовой Церкви. Никому не было пощады: убивали не только мужчин, но и женщин, и даже детей.
Великие и многотерпеливые страдальцы - русские православные христиане - явили миру необычайную силу духа в это ужасное время гонений. Многие из них отступились от истинной веры, разумеется, неискренне, не выдержав жестоких пыток и бесчеловечных мучений. Зато многие пошли на смерть смело, безбоязненно и даже радостно…
Древлеблагочестивые христиане не боялись смерти, многие из них шли на смерть весьма охотно и радостно. Но они скорбели, что немало христиан, не выдержав чудовищных пыток, отрекалось от святой веры и таким образом погибало душой. Доводили их до отречения от веры такими пытками: их или медленно жгли на огне, или выматывали жилы из них, или сначала отсекали
одну руку, потом другую, затем одну ногу и, наконец, другую ногу (это значит - четвертовали), подвешивали за рёбра к потолку или особой перекладине и оставляли так висеть долгое время - до отречения или до смерти, подвешивали и на вывернутые назад руки, колесовали, зарывали в землю по шею живыми; пытали и мучили и всякими другими убийственными средствами. Кто мог выдержать эти драконовские пытки? Чтобы спастись от них и чтобы сохранить свою веру, русские люди вынуждены были сами себя сжигать. "Нет нигде места, - говорили они, - только уходу, что в огонь да в воду". Во многих местах, куда ожидались гонители, сыщики и мучители, заранее приготовлялись срубы для самосожжения или приспособлены были к этому отдельные избы, часовни, церкви, просмоленные и обложенные соломой. Как только получалось известие, что едут сыщики и мучители, народ запирался в приготовленное к сожжению здание и при появлении гонителей заявлял им: "Оставьте нас или мы сгорим". Бывали случаи, что гонители уезжали, и тогда народ избавлялся от самосожжения. Но в большинстве случаев преследуемые самосжигались. Сгорали люди сотнями и тысячами зараз. Такое необычайно страшное время переживали тогда русские благочестивые люди. Многие из них ожидали конца мира, некоторые, надев саваны, ложились заранее в гроб, ожидая архангельской трубы с небес о втором пришествии Христовом".
Во второй половине XIX века староверов уже не предавали таким лютым пыткам, как в конце XVII, но преследования их в тех или иных формах, то ослабевая, то усиливаясь, не прекращались, что вызывало ответную реакцию и естественную ненависть и к Синоду, и к Дому Романовых. Свою характеристику раскола дал в 1881 году обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев в письме к Е. Ф. Тютчевой, дочери великого русского поэта: "Раскол у нас прежде всего - невежество, буква - в противоположность духу, а с другой стороны - хранилище силы духовной под дикой, безобразной оболочкой. Снять эту оболочку - значит добыть великую силу для Церкви, и Церковь мало-помалу добывает её, ибо лучшие люди из раскола переходят к нам… Но вместе с тем раскол есть у нас, теперь в особенности, политическая партия, и весьма опасная. Опасная - по милости непрошеных адвокатов и защитников, людей, не имеющих ничего общего с верой и Церковью. Простые люди из раскола и не подозревают, что во главе их становятся - с одной стороны, мужики-кулаки, преследующие личные свои цели властолюбия и своекорыстия, с другой стороны - журналисты… Кто вопиет о свободе раскола? Люди, не скрывающие своих задних мыслей - произвесть смуту и бросить в народ демократические тенденции. Они возводят в идеал основное учение раскола, что наша Церковь признанная и утверждённая есть Церковь незаконная, и что власти законной, как церковной, так и гражданской, уже нет".
Через три года, в год рождения Николая Клюева, "Церковный вестник" характеризовал старообрядцев как "какое-то особенное общество - антицерковное, антиобщественное, способное ко всему самому зловредному". Были откровения и похлеще, вроде того, что зафиксировал Василий Розанов в "Апокалипсической секте": "Да, они правы… Там филологически и исторически - не спорю… Но в них живёт сатана и их надо распять. Я сам наблюдал старообрядца, входившего в алтарь в ихней моленной: шёл, понуря очи, с таким благочестивым, постным лицом, точно в нём душа кончается. Он меня не видел, а я стоял так, что мне было видно его, когда он скрылся от глаз народа за алтарную стену. Тут он вдруг щёлкнул пальцами и подпрыгнул. Масленица после поста. Пост они держат на виду у нас, православных, а в душе у них масленица. Масленица оттого, что Никон был, конечно, невежда, а филологически и всячески по истории - они правы: и вот они и стоят перед нами с истинно каинскою жаждою убить, задушить… И за это их проклятое чувство я хотел бы их сжечь".
"Зловредные" же староверы всеми силами старались противиться соблазну облегчения жизни, избавления от унизительных ограничений ценой отречения от веры праотцев. Некоторые - "лучшие", по определению Победоносцева, не выдерживали.
Уничтожение центров старообрядчества на Керженце, на Иргизе, на Ветке, в Стародубье в эпоху Николая I вызывали в памяти у староверов самые лютые гонения времён Никона и царевны Софьи. И многие из ревнителей древлего благочестия с радостью шли в огонь, повторяя про себя слова огне-пального протопопа Аввакума: "По се время безпрестани жгут и вешают
исповедников Христовых. Они, миленькие, ради пресветлыя, и честныя, и вседеятельныя… и страшныя Троицы несытно пуще в глаза лезут; так же и русаки бедные, пуска глупы, рады: мучителя дождались, - полками во огнь дерзают за Христа, Сына Божия, Света. Мудры блядины дети греки, да с варваром турским с одново блюда патриархи кушают… курки. Русачки же ми-ленькия не так, - во огнь лезут, и благоверия не предают… овых еретики поджигают, а инии, распальшеся любовию и плакав о благоверии, не дождав-ся еретическаго осуждения, сами во огнь дерзнувшее, да цело и непорочно соблюдут правоверие, и сожегше своя телеса, душа же в руце Божии преда-ша, ликовствуют со Христом вовеки веком, самовольны мученички, Христовы рабы. Вечная им память вовеки веков. Добро дело содеяли - надобно так. Рассуждали мы между собою и блажим кончину их. Аминь".
Уже в 1860 году 15 человек в Волосовском приходе Каргопольского уезда Олонецкой губернии добровольно пошли в огонь. Оставив недалеко от места самосожжения мешочек с тетрадью, где было начертано: "Лучше в огне сгореть, чем антихристу служить и бесами быть".
Те, кто не имел силы принять "огненное крещение", старались хоть мытьём, хоть катаньем, сохранить свою веру, и себя, и своих близких. И не удивительно появление в клюевском доме "старицы из Лексинских скитов", от которой "живёт памятование, будто род наш от Аввакумова корня повёлся". Правда ли, нет ли - не определишь. Но - убедила в этом старица Прасковью Дмитриевну, убедила во укрепление духа, и напомнила, наверное, ещё раз о праотцах, твёрдых и несгибаемых в вере. А уж Прасковья Дмитриевна укрепляла сына. "В тебе, Николаюшка, аввакумовская слеза горит, пустозёрского пламени искра шает… "
С детства уверовав с материнских слов в древнюю родословную, можно было уже без сомнения и, не оглядываясь ни на каких скептиков, сообщать в письменной автобиографии: "До Соловецкого страстного сидения восходит древо моё, до палеостровских самосожженцев, до Выговских неколебимых столпов красы народной".
А теперь обратимся к первым автобиографическим записям поэта от 1919 года и прочитаем там о его матери:
"…Родительница моя была садовая, а не лесная, во чину серафимовско-го православия. Отроковицей видение ей было: дуб малиновый, а на ней птица в женчужном оплечье с ликом Пятницы-Параскевы. Служила птица канон трём звёздам, что на богородичном плате пишутся; с того часа прилепилась родительница моя ко всякой речи, в которой звон цветёт знаменный, крюковой, скрытный, столбовой… Памятовала она несколько тысяч словесных гнёзд стихами и полууставно, знала Лебедя и Розу из Шестокрыла, Новый Маргарит - перевод с языка чёрных христиан, песнь искупителя Петра III, о христовых пришествиях из книги латинской удивительной, огненные письма протопопа Аввакума, индийское Евангелие и многое другое, что потайно осо-ляет народную душу - слово, сон, молитву, что осолило и меня до костей, до преисподних глубин моего духа и песни… "