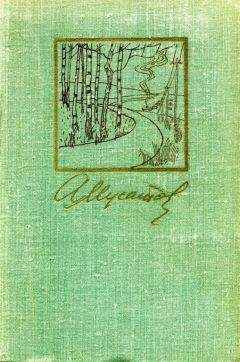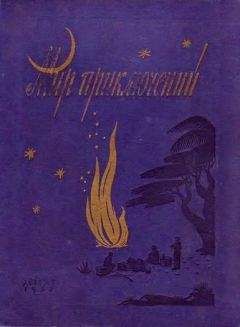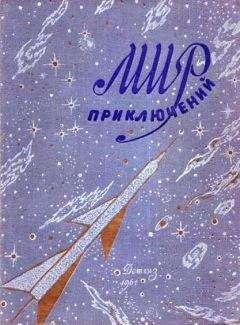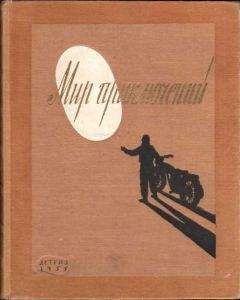Степа усмехнулся и, решив созоровать, еще сильнее зашумел в кустах: пусть трусихи на поляне подумают, что через лесную чащу пробирается зверь серьезный, а не какая-нибудь мелочь вроде ежа.
— Нет, это не еж! — закричали на поляне. — Тетя Груня! Несите топор! В кустах какой-то зверь шебаршится...
— Ах, выдумщицы! — ответил издали женский голос. — Совсем уж невесты, а все еще в игры играют. Занимались бы своим делом.
— Ей-ей, тетя Груня!.. Напролом лезет.
— Возьмите головешку из костра да попугайте своего зверя!
Степа фыркнул, но на всякий случай поспешил поскорее выбраться из густых зарослей лозняка и осинника.
На поляне, заросшей густой травой, на небольшом расстоянии от кустов в настороженных позах стояли две девчонки.
Увидев Степу, они вскрикнули, закрыли лица руками и бросились бежать.
Степа пожал плечами: неужели он такой страшный?
Он стоял на перелоге, заросшем вдоль меж густым, курчавым кустарником. С одной стороны кустарник был вырублен и собран в большие кучи.
На дальнем конце перелога жарко пылал костер; к небу поднимались оранжевые, просвечивающие языки пламени. Недалеко от костра работала женщина в синей домотканой юбке. Она подкапывала корни кустарника заступом, подрубала топором, потом, ухватив руками, с силой выдирала корни из земли — черные, тонкие, гибкие, они были похожи на змей — и бросала их в костер.
Девочки между тем подбежали к женщине в синей юбке и, перебивая друг друга, принялись ей что-то возбужденно объяснять. Женщина выпрямилась, вытерла ладонью мокрое от пота лицо и, посмотрев на Степу, направилась в его сторону.
— Ты хоть прикройся! — крикнула она. — Голыш беспортошный!
Только сейчас Степа сообразил, почему он так перепугал девчонок: он был без рубашки, без брюк, в одних трусах.
«Вот уж действительно деревня-матушка!» — усмехнулся Степа. Не то что у них в городе. Там ходи в трусиках где угодно — по улицам, в магазин, в аптеку.
Завернув за куст, Степа быстро оделся, туго затянулся желтым скрипучим ремнем с портупеей и, держа в руках рюкзак, вышел на поляну. Женщина стояла здесь же. Была она высокая, худощавая, с широким скуластым лицом в крупных рябинках.
Степа сразу узнал ее — тетя Груня Ветлугина.
— Вот это другое дело! — сказала Аграфена, любуясь бравым видом подтянутого, стройного паренька. — Прямо красавец писаный, кавалер! А то вылез голый срамник из лесу, только девчонок перепугал... Крапивой бы тебя за это! Чей будешь-то?.. Погоди, погоди... — Она пристально вгляделась в Степино лицо и вдруг всплеснула руками: — Да ты не Степка ли Ковшов из колонии?
— Он самый! — отозвался польщенный Степа. — Только теперь уж не колония, а детский дом называется. — А я вас, тетя Груня, тоже узнал...
Женщина обернулась и помахала рукой девчонкам, которые всё еще стояли на дальнем конце перелога.
— Идите, идите! Он уже оделся.
Потом она заслонила Степу своей спиной и обратилась к приблизившимся девчонкам:
— А ну, поскакушки, говорите: чего вам сейчас хочется?
Девчонки остановились.
— Только скоро... Сто лет не думать — голова отсохнет! — поторопила Аграфена.
— Я загадала, — подалась вперед одна из девочек. — Поскорее бы пообедать да сбегать на речку искупаться. А еще, чтобы все корни сами из земли повылезали...
— У тебя только и на уме — на речку да за ягодами! — отмахнулась Аграфена и посмотрела на другую девочку. — А ты, Татьянка, чего задумала?
Девочка, которую назвали Татьянкой, все еще стояла, прикрыв глаза.
— Не знаю, тетя Груня... — вполголоса призналась она.
— А братца увидеть не хочешь? — спросила Аграфена и, отступив на шаг в сторону, подтолкнула Степу к девочкам. — Принимай вот...
— Таня! — вскрикнул Степа и, опустив на землю рюкзак, шагнул к сестре.
Да, перед ним стояла его родная сестра, которую он не видел более четырех лет. Она была худенькая, в коротеньком платьице, в тряпочных чуньках, с острым шелушащимся от солнца носиком и почему-то стриженная, как мальчишка, под машинку.
Таня, широко открыв глаза, испуганно смотрела на брата. Потом бросилась к нему, но шага за два остановилась, словно ей отказали ноги, и, часто заморгав, вдруг беззвучно заплакала.
Степа поежился. Как все мальчишки, он не выносил слез. А тут еще плакала родная сестренка. На выручку подоспела Аграфена:
— Эх, как задожжило! Хоть кадушку подставляй...
— У нас там жбан из-под кваса есть, могу принести, — сказала Нюшка, дочка Аграфены.
Скуластая, как и мать, большеглазая, приземистая, со шрамом над бровью, Нюшка несколько раз обошла Степу кругом, задержала взгляд на светлых пуговицах, на новеньком ремне с портупеей, на вишневом комсомольском значке на груди мальчика. Ее лицо выражало такое любопытство, что Степа невольно покраснел.
— Это у вас в колонии или, как там, детском доме, форма такая? — деловито спросила Нюшка. — У всех, да?
— Нет... это не в детдоме, — пояснил Степа. — Такую только комсомольцы носят... юнгштурмовка называется.
— А ты уже комсомолец?.. Давно?
— Не очень.
— Справный костюм, — похвалила Аграфена, поправив зеленую фуражку на голове Степы. — Совсем как красноармеец... Смотри-ка, Таня!
Сестренка уже не плакала. Вытерев кулаками мокрые щеки, она смущенно улыбнулась и, подойдя к Степе, уткнулась ему в плечо.
И опять в глаза Степе бросилась ее остриженная голова.
— Почему тебя, как мальчишку, оболванили?
Таня вспыхнула и, отвернувшись, принялась повязывать голову косынкой:
— Болела я... вот и остригли.
— А мы тебе письмо написали, — сказала Нюшка. — На двух страницах... Вот только отправить не успели.
— О чем письмо? — спросил Степа.
Нюшка и Таня переглянулись: говорить или нет?
— Тут, Степа, такое дело... — заметив замешательство девочек, пояснила Аграфена. — Таня в город засобиралась... Не могут ли ее там в колонию принять?
— А что? Плохо у дяди? Обижают ее?
— Нет, по головке гладят. Живет — песенки поет... Как сыр в масле катается! — сердито бросила Нюшка.
— А ты помолчи! — остановила ее мать и, обернувшись к Степе, уклончиво сказала: — Плохо не плохо, а все же к родному братцу поближе хочется.
— Не знаю, тетя Груня... — растерянно ответил Степа. — Я ведь теперь и сам не в детдоме. Нас всех, у кого есть родственники, по домам рассылают. Вот я и приехал поступать в вашу школу.
— В шекаэм?! — почти вместе вскрикнули девочки.
Степа кивнул головой:
— Да... В школу крестьянской молодежи. У меня и направление есть.
— Оно, пожалуй, и лучше, что ты в деревню вернулся, — сказала Аграфена. — Вон ты какой рослый да статный. Какой год-то пошел? Четырнадцатый, поди, как Нюшке?
— Пятнадцатый, — поправил Степа.
— Вот то-то... Совсем большой... Теперь Таня с тобой не пропадет.
— А где ты жить будешь? — спросила сестра. — У дяди?
— Почему у дяди? — с достоинством сказал Степа. — При школе. Мне как колонисту и детдомовцу стипендия полагается и общежитие. Вот пойду к директору, покажу направление, и все будет сделано. Пойдем со мной?
Таня вопросительно посмотрела на Аграфену:
— Нам работать надо...
— Ступай, ступай, — разрешила Аграфена. — Раз брат приехал — можно и отлучиться...
Нюшка толкнула подругу в бок.
— Тетя Груня, — попросила Таня, — отпустите и Нюшку с нами!
Мать посмотрела на дочь и покачала головой. И что за непоседа! Ходит на все свадьбы, на все похороны, первая примчится на пожар, первая встретит приехавшего из города уполномоченного, проводит его до сельсовета, умучает по дороге расспросами. Как же ей не проводить сейчас до школы Степу-колониста!
— Ладно, идите! — согласилась Аграфена. — Только Ворону на глаза не попадайтесь... — И она пошла на другой конец перелога, к потухшему костру.
— Кто это Ворон? — поинтересовался Степа.
— Да так... дядечка один, — замялась Таня.
— Что там дядечка! — фыркнула Нюшка. — Ты уж прямо говори. Все равно Степа узнает.
— Ой! — вскрикнула Таня, схватив подругу за рукав. — Вот он и сам... Давай скорее за работу!
Оставив Степу одного на поляне, девчонки побежали к Аграфене и принялись складывать в кучи срубленный кустарник.
На конце перелога остановилась легкая тележка, запряженная сытой лошадью с белой, похожей на крест лысиной на лбу. Бросив вожжи на спину лошади, с тележки спрыгнул статный, грузный мужчина.
«Это же дядя Илья!» — вглядевшись, узнал Степа.
Окинув взглядом наполовину расчищенный перелог, Илья Ефимович Ковшов подошел к Аграфене.
— Не дюже много наработала, — недовольно сказал он. — Будешь так ковыряться — до сенокоса не управишься. Когда ж перелог станем запахивать?