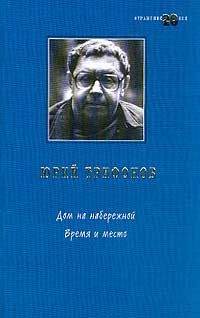Николай Григорьевич почесал трубкой затылок, присвистнул и повесил трубку. Елизавета Семеновна смотрела на мужа, хмурясь.
– Что он сказал конкретно? – спросила бабушка.
– Сказал, что с Иваном недоразумение. Ничего конкретного. Он уже звонил Давиду, тот пытался узнать – бесполезно.
– Господи, какое несчастье! Что же у Вани могло быть? – спросила Елизавета Семеновна.
– Что-то было, – сказала бабушка. – На пустом месте такие вещи не случаются, как ты знаешь. Между прочим, Иван Снякин никогда не был мне симпатичен. Во-первых, вся эта смена жен. Во-вторых – отношение к детям. Ведь своего старшего сына, от первой жены, он не захотел воспитывать, отдал в «лесную школу». По требованию этой теперешней, артистки. Мы были тогда все возмущены: и Иван Иванович, и Берта, и Коля Лацис. Берта помогала устраивать в «лесную школу», она же в Наркомпросе, но она тоже возмущалась...
Николай Григорьевич, усмехнувшись, хотел что-то сказать, но только покрутил головой и вышел из кабинета. А Михаил Григорьевич снял пенсне – его лицо без пенсне показалось больным, усталым, под глазами мешки – и сказал слабым голосом:
– Ерунду ты порешь, матушка. Обывательские разговорчики вместо настоящей партийной оценки.
Тихо открылась дверь, и вошла мать Горика. Она постояла неподвижно в темноте, прислушиваясь и стараясь понять, спят дети или нет. Женя и Валерка спали, а Горик лежал с открытыми глазами. Он сказал шепотом:
– Ма, я не сплю.
Мать подошла на цыпочках и села на край кровати. Она притронулась ладонью ко лбу Горика, где была шишка; рука ее была холодная.
– Сынок, мы поедем послезавтра к себе, в Серебряный бор.
– Правда? – Горик обрадовался.
– Ух, здорово! Мне так не хотелось ехать в этот самый Звенигород! А ты поедешь?
– Конечно. И я, и папа. И, может быть, Валерку возьмем, если Миша его отпустит и если вы дадите слово, что будете вести себя хорошо.
– Конечно, дадим! Непременно дадим! Обязательно дадим! Ура-ура-ура! Да здравствует наш любимый, несравненный, драгоценный Серебряный бор! – в возбуждении восклицал шепотом Горик. Он уснул счастливый.
На другой день, тридцать первого декабря, когда все сидели утром за завтраком в столовой, в бабушкиной комнате раздался внезапно оглушительный грохот. Было похоже, что кто-то выбил балконное окно. Побежали туда и увидели, что разбилось не окно, а зеркало. Весь паркет был усыпан сверкающими осколками. Никто не мог понять, каким образом и почему старинное толстое зеркало выпало из двери платяного шкафа, запертой к тому же на ключ. Это была загадочная история. Домашняя работница Мария Ивановна сказала, что это к войне. Отец Горика сказал, что война с Гитлером и Муссолини, разумеется, будет, но не скоро. А Горик подумал о том – и это поразило его, – что в мире происходят вещи, которые не может объяснить никто, даже отец, самый умный человек на свете, и мать, тоже очень умная и самая добрая. Ни один человек, никто и никогда не объяснил Горику, почему в то утро упало зеркало.
От вокзала до Страстного бульвара, где жила тетя Дина, Игорь шел пешком, совсем налегке; хлеб он доел, а книжку Эренбурга сунул в карман. Москва поразила тишиной, малолюдством – даже на вокзальной площади людей почти не было, троллейбусы шли пустые – и чем-то глубоко и тяжко растрогала. Он словно увидел родное лицо, но изменившееся и настрадавшееся в долгой разлуке. На площади перед метро «Кировская» стояли несколько человек и слушали новости из репродуктора, установленного на фонарном столбе. «Немцы болеют от гитлеровских эрзацев, – читал торжественным голосом диктор. – Как заявил в Женеве прибывший из Германии голландский врач, долгое время практиковавший в одной из дрезденских клиник...» Лица слушающих выражали сосредоточенное, несколько отупелое внимание. Может быть, они и не слушали, а думали о своем. Или терпеливо ждали чего-то важного, что должен был сказать диктор.
Пошел слабый дождь. Игорю не хотелось садиться в трамвай. Он шел бульваром, заваленным опавшей, гниющей листвой, останавливался у газетных витрин, читал. Умер художник Нестеров. Рязанская область закончила уборку картофеля. Волнения во Франции. Исполком Моссовета одобрил инициативу жильцов дома № 16 по Н. Басманной и № 19 по Спартаковской улицам по активному участию в подготовке к зиме: участие в ремонте отопления, крыш, утеплении зданий, завозе топлива, его хранении, эксплуатации. 450 лет назад Христофор Колумб открыл Америку. Этому знаменательному событию посвящена выставка, открывшаяся на днях в библиотеке. А дочь белорусской партизанки Татьяну и внука Юру фашистские изверги загнали в погреб и забросали гранатами...
Дом на Страстном знакомо, громадно чернел сквозь дождевой туман. Внутри, в клетках дворов, было пустынно. Когда-то эта цепь проходных дворов была оживленнейшим местом: по ним проходили, сокращая себе путь, с Большой Дмитровки на Страстную площадь, а по утрам здесь толпами шли хозяйки за покупками в Елисеевский магазин и навстречу им, снизу, шли другие на Палашевский рынок. Игорь свернул направо, в тупиковый двор, и подошел к подъезду. Это был, впрочем, не подъезд, а небольшая, довольно грязная и старая, много раз крашенная дверь с железной ручкой, лестница за ней была такая же грязная и старая, она поднималась наверх короткими зигзагами и по своей крутизне напоминала винтовую. Лестница огибала пустое вертикальное пространство, такое узкое, что если бы кто-то вздумал кончать тут счеты с жизнью, то должен был бы лететь вниз стоймя, солдатиком. На третьем этаже была выбита ограда, край лестницы висел над обрывом; Игорь прошел эти несколько ступеней с осторожностью, прижимаясь к стене. «Ну и ну! Как же тут бабушка Вера ходит?» – подумал он с изумлением.
Он нажимал кнопку звонка и улыбался.
Его радовали этот сырой день, пустые дворы, перекрещенные бумажными лентами окна. Это была Москва. Он вернулся. Дверь не открывали. Он позвонил еще раз и ждал, продолжая улыбаться. Потом, догадавшись, что звонок не работает, сильно постучал. Сразу же зашаркали, завозились с замком, женский голос спросил:
– Кто там?
– Я к Дине Александровне...
В первую секунду он не узнал тетю Дину – худая старушенция. Какое желтое, опавшее лицо! На плечи тети Дины был наброшен, как у боксеров, выходящих на ринг, махровый халат, который совсем гнул ее и заставлял вытягивать шею вперед. Выражение лица у тети Дины было испуганное. Она вскрикнула:
– Ах, Горик! – и сейчас же, оглянувшись назад, очень громко и напряженно:
– Мама, Горик приехал! Это Го-рик!
Вышла бабушка Вера. Она ничуть не изменилась. Она тихо шла по коридору вдоль стены, подняв сухонькое, кивающее, детское личико в мелко-кудрявом, седом венчике, и улыбалась издали. Подойдя, обняла Игоря легкими руками, пригнула голову, поцеловала, и он вспомнил этот старушечий запах комода, лежалости и сухих духов. Обе принялись хлопотать, сняли с него пальто.
– Я принесу чайник!
– Мама, не суетись. Принеси лучше полотенце. Ходи медленно!
– Я вовсе не суечусь, и даже не суетюсь. Видите, этот глагол мне чужд, я даже не знаю, как его спрягать...
– Баба Вера, ты молодчина, – сказал Игорь радостно.
Он сидел на стуле и стаскивал башмаки, несколько прохудившиеся. В Ташкенте, где месяцами не бывало дождей, они служили неплохо, но в первый же час в Москве сдались, он промочил ноги.
– Почему ты шел пешком? – спрашивала тетя Дина.
– Я так проголодался, так соскучился по Москве! Читал афиши, объявления. Знаю, например, что производится набор аптекарских учеников для аптек Москвы. А что? На худой конец! Вечер Хенкина в театре эстрады – рядом, на Малой Дмитровке...
– Постой, Горик. А где твой багаж?
Он рассказал. Лицо тети Дины побледнело. Она опустилась на сундук и сказала:
– Я получила письмо три дня назад. Тетя Нюта написала очень подробно, что она с тобой посылает – ты же знаешь свою бабушку, – по пунктам...
– Да, барахла было много.
– И продуктов тоже, она писала.
– Да, – сказал Игорь. – Продуктов тоже...
Тетя Дина сидела на сундуке, с удивленным видом разглядывая пол. – Как же так, я не понимаю? – сказала она тихо и развела руками. – Как можно быть таким рассеянным? Как можно, зная, что едешь в голодный город...
Игорь стоял перед нею босой, в мучительном оцепенении. В правой руке он сжимал влажные носки. Только сейчас он внезапно осознал, как ужасно, непоправимо, жестоко было то, что произошло с ним и в чем он был конечно же виноват. Как всегда, осознание приходило к нему позже, чем следовало, и тем сокрушительней. Он готов был тут же, босой, кинуться бежать из дома. Бабушка Вера пришлепала с полотенцем в прихожую и остановилась, не понимая, отчего Игорь замер в такой странной позе, а тетя Дина сидит на сундуке.
– Дина, что случилось? – спросила она. – Что-нибудь с Нютой?
– Нет, нет, ничего с твоей Нютой, – сказала тетя Дина. – Иди, пожалуйста, в комнату. Он будет мыться, а потом мы станем пить чай и я тебя позову.