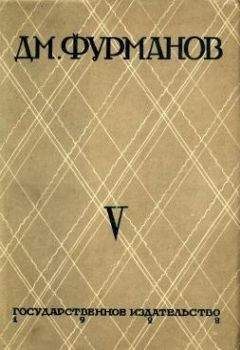Снова и снова эти мучения неопределенности. Снова распутье. Снова поиски. Знакомое, тревожное состояние. Оно было. Первый раз оно было тогда, когда в начале революции стоял я на распутьи и не знал, кому отдать свое революционное сердце, кому отдать свои силы, с кем итти. Ничего не понимая, не зная учений и тактики учений, я ткнулся к эсерам, ткнулся сам не знаю почему, — видимо потому, что тогда еще преобладали во мне идиллические, «деревенские» настроения; не выветрилась еще вялость, мещанская дряблость и половинчатость. Знакомые тоже шли к эсерам. Ну, и я за ними. Партия рабочих, социал-демократы, страшила, отгоняла тем, что интересы идиллического порядка оставляла в тени, на первое место выдвигала науку, цифры, достоверные факты. Все это было сухо и скучно. Затем уехал в деревню. Там совершился переворот в сторону интернационализма. Я еще колебался. Только чутьем я чувствовал, что в моем «патриотическом демократизме» не все благополучно. Наиболее сознательные рабочие были не с нами, — это наводило на размышления. Промежутки между поездками по деревням были особенно показательны и убедительны в этом именно отношении. В самом деле, попадешь в деревню и слышишь там лишь утилитаристские взгляды, видишь единственное стремление во что бы то ни стало скорее получить землю — и только. Никаких идеологических надстроек и фундаментов нет, — просто нужна земля, и дальше ничего нет. Приезжаешь в город и видишь, чувствуешь, как высоко вздымается здесь волна героизма, как широко идет здесь бескорыстная, высоко идейная работа пролетариев. Это заставляло задумываться и все чаще и чаще оглядываться назад и внимательно всматриваться в тех, с которыми я шел, с которыми был связан. Мне становилось их жаль, а с тем, кого жаль, — невозможно вместе бороться. Мне становилось их жаль, как заблудших, как инвалидов… Не помню, какие еще были у меня чувства, но однажды я понял, что дальше работать с эсерами невозможно. Это было мучительное состояние, — один, каждую минуту рискующий ошибиться и впасть в какое-нибудь непоправимое противоречие, малознающий, с трудом разбирающийся в сложной действительности, — я решил уйти от правых эсеров. Куда? К кому итти?
Надо было итти тогда же, ни секунды не медля, — к большевикам, но еще слаб был, не хватало духу идеологию мелко-буржуазную сменить на другую, пролетарскую. Доносились к нам глухие вести о «левых соц. — революционерах», но кто они, о чем говорят, чему учат, — этого никто не мог сказать. Больше известно было о максималистах. Несколько товарищей, ушедших от эсеров, вслед за мною, также называли себя первое время «левыми эсерами». Потом мы окончательно назвались максималистами. Шло время. Пылало сердце революционным огнем. Хотелось сделать что-то большое… А максимализм начал хромать…
Тут снова пришел мучительный момент перелома, переходный, томительный момент. Нас стала увлекать анархическая линия, так как будто бы было больше жизни. Анархисты клокотали, рвались вперед, казалось, были смелым, воистину революционным авангардом рабочей революции. Сначала мы робели, колебались, — читали, беседовали, мечтали… А потом приехал Черняков и ускорил дело, — вся группа перешла к анархистам, не определяя себя точнее: синдикалисты или коммунисты, или кто-нибудь еще. Анархисты и, конечно, — хотя большинство и называло себя в частных беседах анархистами-синдикалистами, — коммунисты. Перелом был совершен. Стало как-будто легче, но это была только видимость. На самом же деле я чувствовал по-старому свое фальшивое двусмысленное положение — «ни в тех, ни в сех». Борясь все время с рабочими и за рабочих, я был в то же время оторван от них, разгорожен какою-то формальною, фальшивою стеною. От этого все время было тяжко, неясно на душе.
И снова пришла эта ломка, мучительная неопределенность… Снова я на распутьи. Не хочу лукавить перед собою: не могу учить тому, чему учил, но и принять новое также еще не могу. Анархизм питается контр-революционными чаяниями, с одной стороны, темпераментом, с другой. Погромные статьи, что были за последние недели в «Анархии», все поведение анархистов после разгрома федерации, это сплошная ставка на контр-революционное восстание. Оставаться в федерации дальше нет никаких сил. Но… куда итти?.. Уж такая у меня мятежная душа, что куда-то все рвется, что, прильнув к одному, живо стремится умчаться от него в поисках за более высоким., за новым. Это похвала себе, это нескромно, но это правдиво. Беспартийный… Правый эсер… Левый эсер… Максималист… Анархист… Коммунист-большевик… Где же правда? В котором же учении спасение революции? Каждую крошечную группу, каждого отдельного «вождя» обуяла, затуманила мысль создать «свое» учение, «свою школу», проявить где-нибудь «свое имя», самому показаться, самому продефилировать. Мне все это глубоко противно именно потому, что все эти пустые мечтатели совершенно не считаются с тем, — помогает это рабочей революции или нет. Им, этим хвастунам от революции, всего важнее оставить на столбцах газеты свое имя, сделаться более или менее «историческою личностью». Если бы к этому итти, — разумеется, на таком безлюдьи можно было бы кое в чем и кое-где выдвинуться и прогарцовать по страницам газеты.
Но когда ставишь себе конкретную, осязаемую задачу практической борьбы, — тут политическому хвастовству не место, тут надо вести живое дело, а не брехней заниматься. Эти вот кардинальные соображения и вывели теперь меня снова на распутье, к раздумью. Я смотрю на эти свои переходы от одного учения к другому, как на этапы зрелости. Я зрею, крепну, утверждаюсь на революционном посту, — и иду все дальше, все дальше. Это в конце концов не важно, какое слово приклеишь ко лбу. Кем бы я ни назывался, — всю революцию я работал в теснейшем контакте с большевиками, вел с ними общую линию и чувствовал тяжесть от того, что, говоря одно, делая одно дело, — числился, жил где-то в другом месте. Еще не знаю: остаться «независимым анархистом» и работать, как работал все время, т. е. как большевик, или же без обиняков, без дальних рассуждений вступить в ряды коммунистов-большевиков и слиться всецело с рабочим движением.
Вас изумляет такая постановка вопроса? Она вам кажется смешной и наивной? Вы скажете, что тут скрещиваются два противоположных, может быть, враждебных учения? Нет, думаю, — это сплошное недоразумение. В анархизме и большевизме нет элементов, взаимно исключающих эти два учения. Тактика большевизма отнюдь не исключает возможности быстрого продвижения по пути к безвластному коммунизму. Только больше логики, больше твердости и смелости у большевиков. А что у анархистов? Никакой линии поведения, никакого чутья живой действительности, — лишь смешное желание сохранить во что бы то ни стало какую-то «самостоятельность», следуя той логике, что «неправильно все то, что сказано и сделано большевиками». Ни одному жизненному акту не дается жизненного толкования, все ставится вверх тормашками, все «по своему». И вижу я, что голодная, измученная, рабочая масса чувствует правду, не бросает партию, которая с изумительным мужеством борется все время за революцию… Сочувствие, общее доверие рабочих (как и мое собственное) все время революции неизменно с ними, — с коммунистами-большевиками.
Вчера, т. е. 1 июля, было заседание группы. Присутствовали Ярчук и Максимов. Много было споров и разговоров по поводу истинного анархо-синдикализма и ложного, нежизненного. Я гнул свою линию, но чувствовал, что группа уже не со мной. На лицах товарищей блуждали иронические улыбки, когда я говорил, отстаивая свою позицию. Все сочувствие было на стороне А. Чернякова, а вместе с ним — Ярчука и Максимова. Я остался почти один. Вместе со мною лишь Зильберт. И оставил вопрос открытым Павел Иванович Муравчиков.
Я — коммунист-большевик, если иметь в виду всю ту работу, что я вел за время революции. Всю революцию я рос политически и, наконец, дорос до более или менее ясного сознания своей кровной близости с научным коммунизмом.
Остается только пустой, формальный акт оглашения. На это также требуется смелость, и смелость, пожалуй, не малая. Особенно мне, перешедшему последовательно от правого и левого эсерства к максимализму и затем к анархизму.
Да, многое я испробовал. Но что же делать, когда невозможно было разом найти свою сущность? И неужели оставаться и числиться, когда перестал уже верить? Нет, — бежать, и бежать немедленно… Мучителен только первый момент, только самое начало. Дальше будет легче… Может быть… Возможно, что дальше будет легче, но теперь — смертельно трудно. Я ведь только и думаю, что про <:вое распутье, ни на минуту оно нейдет из головы. Запутался я совершенно и не вижу выхода. Я один, не с кем посоветоваться, поговорить. Да и возможно ли вообще тут говорить и советоваться? Кто поймет, что у меня творится на душе? Я ведь и сам с трудом разбираюсь, — сумбур какой-то, борьба жестоких противоречий, оформление чего-то нового и отчаянное сопротивление старого. Порою мне отчетливо ясно, что правда у большевиков и что надо безраздельно уйти к ним. А потом охватывает раздумье, сомненье, снова и снова начинаю путаться, теряю всякое пониманье. Уйти к большевикам — значит уйти в другой, совершенно новый мир. Там новая марксистская идеология, апофеоз государственности, централизации, дисциплины. Там свои приемы борьбы, против которых борются анархисты. Я схожусь с большевиками во многом, но как, к примеру, быть с хлебной монополией, в которую не верю, которую не признаю? Защищать, не признавая? Но я ведь не могу так слепо повиноваться, я чту абсолютную свободу, я хочу и буду думать сам, а не по мыслям других. Знаю: уйти к ним — это значит во многом связать себя обетом покорности и подчинения. Хватит ли меня на это? Едва ли… И если не хватит, — снова уходить, снова мучиться в поисках новой пристани? Но тогда, по сути, и пристаней то уж не останется… кроме буржуазных. Даже подумать об этом трудно: очутиться безо всякой надежды на пристань, ни в близком, ни в далеком будущем. Что зовет меня к большевикам, — так это непоколебимая их твердость, непреклонность в достижении намеченных целей. Они создают пролетарское государство. Мы, анархисты, — против государства. Но, может быть, здесь речь идет только о слове? Конкретно, на работе, быть может, и мы вынуждены будем строить лишь то, что строят большевики? Ведь оно часто так получается: говорят как будто бы разное, а на самом деле — одно. Нет ли в этом споре такого рокового недоразумения? Ведь жизнь не дает итти поперек законов развития и непременно выпрямит свою линию по единственно возможному руслу созревшей, готовой суммы обстоятельств. Долой государство, — заявляем мы. А как будем строить новое общество? Да всего вероятнее так, как позволит жизнь, а не так, как сами захотим. Продвинуть, помочь, облегчить, разумеется, мы можем, но выкинуть какой-то артикул, скакнуть через жизнь невозможно, — запнешься, упадешь. Вот анархисты борются против марксизма, как будто это сплошная ложь и ошибка. Во имя преклонения перед идеалом анархизма — отбросить, забыть законы развития немыслимо. Я не тверд, я многого, может быть, не знаю и не понимаю, но все-таки забыть и глумиться над тем, во что верю, — я не могу со спокойной совестью, хотя бы и ради высокого конечного идеала. Я весь запутался в противоречиях, я не знаю, куда примкнуть. Может быть, не примыкать никуда, — остаться «независимым анархистом»? Но не оказалась бы эта «независимость» простой растерянностью, сумятицей, сплошной нелепостью. О, если бы я мог охватить разом и то и другое учение, разом увидеть все pro и contra!