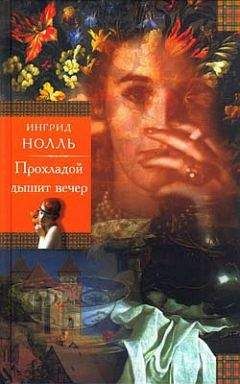— Нет, я ничего не пропустила.
— Как же это? Почему он не пишет, с кем отправил посылку?
— Торопился и, видно, забыл.
— Как можно забыть такое? — кипятилась старуха. — Поди теперь угадай, с кем он послал и что он послал… Посылает и не пишет, через кого…
Зелда досадливо повела плечом. Ее заботило совсем другое. Прошло уже одиннадцать дней, кто знает, что случилось за это время? И как будет дальше? Писать он станет сюда, — значит, письма его пропадут. Как же быть, как ей жить без его писем? И ему она не знает, куда писать, он не будет даже знать, где они и что с ними…
— Надо же, не написал, с кем посылает, — ворчала старуха. — Прямо хоть плачь…
Зелда вышла во двор посмотреть, где дети.
Было уже темно. За ставком догорали остатки хозяйственных строений, в воздухе пахло гарью. Как и прошлой ночью, с Мариупольского шляха доносились частые тревожные гудки машин и тяжелый, неумолкающий грохот колес.
Глава седьмая
Этой ночью Зелда, как и все бурьяновцы, не прилегла, не присела. Задернув в доме занавески, всю ночь готовилась в путь. Коптящая керосиновая лампа, от которой уже давно отвыкли, слабо освещала вещи, разбросанные по столам, табуреткам, кушетке, по полу. Купленная к майским праздникам широкая никелированная кровать и детские кроватки, одна меньше другой, были тесно составлены вместе, а вся постель — перины, одеяла, подушки — увязана в узлы и сложена в углу около двери. На этих узлах вповалку, одетые и неумытые, спали усталые дети. Только поздно ночью Зелде удалось уложить их. Вся мебель была передвинута, стол со стульями и кушетка поменялись местами, коричневый шкаф стоял посреди комнаты с открытыми дверцами; в комоде были выдвинуты ящики. Убрали вышитые салфетки, сняли грамоты и фотографии со стен, и там, где они висели, теперь белели пятна и торчали ржавые гвоздики. От этого беспорядка в доме, от неряшливого, беспризорного вида детей, спавших на узлах в одежде, а главное, от мысли, что вот приходится уезжать, не дождавшись письма от Шефтла с новым адресом, у Зелды сердце кровью обливалось. Но она крепилась изо всех сил, не хотела выдавать себя перед свекровью, которая и так все время охала и причитала. Еле двигая слабыми, высохшими ногами, старуха бродила по дому, собирала то, что еще осталось: бельевой валик, тяпку, ступку и кухонную доску, подсвечники, которые ей еще к свадьбе подарили, тяжелый медный ковшик, привезенный покойным мужем с ярмарки, когда родился Шефтл… Ей дорога была каждая вещичка в доме, каждая о чем-то напоминала, была частью жизни, частью ее самой. С этими вещами, чувствовала старуха, она еще что-то значит, а без них? Что она без них? С полки, висевшей на стене боковушки, она кряхтя сняла старые запыленные молитвенники, что лежали там с дедовских времен, вытащила из чулана ухват и кочергу, собрала все горшки и крынки.
— Куда вы все это тащите? Мы самое нужное и то не можем взять. — устало произнесла Зелда.
У нее уже не было сил препираться со свекровью. Обвязав бечевкой сверток с едой, она опустилась на узлы рядом с детьми, на минутку закрыла глаза…
— Нашла время дрыхнуть, — ворчала свекровь. — Ей что… Хоть все оставляй, ей не жалко… О нахлебничке, о немчике, вот о ком она беспокоится.
Старуха возилась, пока не стало светать. Тогда она вспомнила, что надо же еще на кладбище сходить, проститься с могилой мужа, с могилами отца и матери, деда и бабки, с землей, где похоронены первые бурьяновские колонисты. Заросшее травой кладбище лежало по ту сторону плотины. Старуха накинула на голову темный платок и вышла из дому. Сквозь голубоватый рассветный туман она увидела идущего мимо их двора председателя.
— Доброе утро, — поздоровалась она, ускоряя шаги. — Ну, как там?
— Вещи, вещи выносите, — ответил ей Хонця на ходу— Через пятнадцать минут подъедет подвода. Поторапливайтесь! — крикнул он, удаляясь. — Нам нельзя задерживаться ни на минуту.
Услышав эти слова, старуха опрометью бросилась в Дом. С криком, словно горела крыша над головой, она стала будить Зелду и детей.
— Чего вы спите! Подвода сейчас придет! Скорей! Скорей!
Зелда, вскочив, первым делом схватила на руки Шолемке, который с перепугу залился отчаянным плачем. Шмуэлке с Куртом, а за ними и Тайбеле с Эстеркой, протирая глаза, побежали во двор. Не прошло и пяти минут, как на улице в самом деле показалась подвода, которая стала заворачивать к их двору. Дети с радостными криками побежали ей навстречу.
Выкрашенная в зеленый цвет подвода уже была наполовину загружена узлами и утварью. Спереди, с хмурым видом, свесив короткие ноги на дышло, сидел Юдл Пискун. Одет он был в ту же засаленную куртку и вытертые узкие штаны, в каких приехал. Доба, бледная, пришибленная, съежившись, сидела сзади. У распахнутой настежь двери дома подвода остановилась. Доба молча слезла и пошла в дом помогать выносить вещи. Юдл, прикусив тонкий ус и щуря глаза, продолжал, не отпуская вожжей, сидеть на возу. Он простить себе не мог, что допустил такую страшную, такую дикую глупость. Надо же ему было вернуться в хутор как раз к эвакуации! Разве не мог он остановиться где-нибудь неподалеку, на станции или в чужом селе, где его не знают, и переждать? Дождаться, пока придут немцы, если бы он мог сейчас исчезнуть… Но куда бежать, где спрятаться? Надо было ночью. Но откуда он мог знать? Да нет, свалял дурака, понадеялся, что немцы займут хутор, прежде чем бурьяновцы соберутся и уедут. «Что делать? Как спастись? — ломал себе голову Юдл и ничего не мог придумать. Его поддерживала лишь надежда, что немец перережет им дорогу. — Так и будет, — утешал он себя. — Иначе и быть не может. Далеко мы все равно не уедем…»
Приободрившись, он с затаенным злорадством оглянулся на Зелду и старуху, которые, притащив тяжелый тюк, взваливали его на подводу. Прибежавшие следом дети, босые и растрепанные, громко спорили.
— Я первый! Я сяду раньше всех, — кричал Курт, прыгая у подводы.
— А я еще раньше, я прямо сейчас влезу! — и Шмуэлке уцепился сзади за грядку.
— Я тоже хочу.
— И я! И я! — зашумели девочки.
Юдл искоса посматривал на них. И вдруг ему захотелось вот так, ни за что ни про что, огреть их кнутом. «Шефтлово отродье… Пока я там пропадал в лагере, он тут с женой спал, детей плодил… Целый табун!» — с ненавистью думал Юдл.
Зелда из последних сил поднимала на подводу огромный узел, завернутый в пестрое рядно.
«Хоть бы помог ей, нет, сидит как истукан, — Доба с раздражением посмотрела на мужа. — И не почешется…» А ведь ей они еще как помогали все эти годы, пока его не было, — и Зелда, и Шефтл. Но сказать ему она не решалась. Боялась. И так уж она натерпелась от него за те дни, что он дома. Доба только вздохнула, влезла на подводу и, тяжело дыша, начала разбирать и складывать сваленные там вещи.
Когда подвода была нагружена доверху домашним скарбом — старыми корзинами, малыми и большими. узлами, подушками, перинами и ящиками с посудой, — Зелда посадила детей: Шмуэлке, Тайбеле, Эстерку и Курта, а под конец подала Добе Шолемке. Потом влезла на подводу сама.
— Ну, все уже? — спросила Доба, придвигаясь к Зелде.
Зелда не ответила. Она смотрела на свой дом, на завалинку, где они с Шефтлом коротали летние вечера, на палисадник с низенькими вишнями, на куст хризантем против окон, на тополь посреди двора — тень от него тянулась до самого порога, — и от мысли, что сейчас, сию минуту придется все это оставить, она чуть не зарыдала от отчаяния. Здесь она прожила с Шефтлом свои лучшие годы. И сейчас, в последние минуты, она особенно сильно чувствовала, как тяжело со всем этим расставаться. Но — надо было. И, собравшись с силами, Зелда позвала:
— Свекровь, где вы? Пора садиться! Все уже на подводе!
Но старуха не слышала. Она стояла одна в своей опустевшей боковушке и прощалась с голыми стенами, с домом.
— На кого я тебя оставляю, — шептала она, — как я жить без тебя буду…
Зелда снова ее позвала.
Сгорбленная, еще больше высохшая, старуха вышла, сделала несколько шагов и остановилась. Всем своим слабым, худым телом она прильнула к стене, обхватила руками угол дома, точно это было живое существо, и лицо ее искривилось — она горько заплакала.
Их дом был самый старый на хуторе. Построил его старухин прадед, один из первых колонистов, когда полтора с лишним века назад обосновался па этой, тогда еще дикой земле. Потемневшая от времени крыша, низенькая длинная лежанка, где в зимние вьюжные вечера сушились семечки, скрипящие двери — все здесь ей было дорого, как жизнь, и, как с жизнью, трудно было со всем этим расставаться.
Старуха медленно опустилась на завалинку.
— Свекровь… — в третий раз позвала ее Зелда. Старуха не двигалась с места.
Зелда слезла с подводы и подошла к ней:
— Что с вами, вы же нас задерживаете… Идемте, садитесь наконец…