Маша вошла в тамбур, некоторое время помедлила перед обитой оленьими шкурами кухонной дверью.
В кухне было темно, а плита еще теплая. Маша нашарила на стене выключатель. Вспыхнул ослепительный свет.
Села на диван и огляделась. Вещи долго живут после смерти их владельца, но по каким-то неуловимым признакам уже видно было, что нет той хозяйской руки, которая их касалась.
Маша подошла к проигрывателю и включила его. Поджидая, пока нагреются лампы и загорится зеленый огонек индикатора, смежила веки и вспомнила портрет Катаржины Радзивилловой, нарисованный неизвестным художником.
Потом полились знакомые звуки. Музыка рассказывала о том, что было здесь совсем недавно.
Резкий телефонный звонок заставил Машу вздрогнуть. Она поспешно схватила трубку и услышала голос Сергея Ивановича:
— Мария Ивановна. Извините, что беспокою. Увидел свет и догадался, что это вы. Вам оставили ужин в гостинице.
— Спасибо, Сергей Иванович.
Маша медленно положила трубку, выключила свет, разделась и легла в постель. В окно мерцал йынэттэт, и, казалось, несколько его лучиков проникли в комнату, зажглись цветными огоньками на индикаторе, на шкале проигрывателя.
Утром перед самым отъездом Маша еще раз поднялась на холм, к могиле Андрея Пинеуна. Уже издали она заметила там какой-то странный предмет. Это был огромный трехпалый якорь, выкрашенный корабельным суриком.
Видно, Сергей Кымын и Антон Каанто постарались. Только вот как им удалось поднять сюда такую махину?
Маша уселась на одну из якорных лап. Перед ней раскинулся весь Лукрэн, расчерченный ровными улицами, заставленный белыми штукатуренными домиками. Чуть в сторонке, над самым обрывом, притулился занесенный снегом домик Андрея Пинеуна. А там, ниже, на косе, возле торосов, на высоких подставках виднелись корабли, потерявшие своего капитана.
Стояла такая прекрасная погода, была такая тишина, такой покой вокруг, что не верилось в реальность совсем недавно бушевавшей здесь пурги, свирепого ветра, обжигающего мороза.
Дорога, запомнившаяся осенней, нынче была совсем зимней. Лаврентьевская аэростанция утонула в снегу, на ней работали снегоочистители. Самолеты надели лыжи. Через залив со стороны Нунямского мыса шли цепочки нарт — ехали охотники, оленные люди.
Накануне весь вечер Маша провела у Спартака Пинеуна. Она привезла ему почти все имущество отца, в том числе большой радиокомбайн.
Сергей Иванович на прощанье не посмел спросить Машу, что же дальше будет с их совместным планом перестройки зверофермы. Видел, как тяжело переживает она смерть Андрея, и был тактично молчалив. Но на лице его Маша прочла этот немой вопрос и почему-то не смогла дать ответа. Неужели у нее самой еще нет твердого решения?
Да, теперь все у нее перемешалось, ничего нет ясного. Что сказать Петру Ходакову? Согласиться с любым его предложением? Можно быть уверенной, он подобрал по-настоящему интересную, достойную теперешнего ее положения работу. Вот только сама она не знает, как быть…
Командир самолета Володя Пины, передав управление второму пилоту, прошел в пассажирский салон, подсел к Марии.
— Обратно возвращаетесь? — спросил он.
Маша кивнула.
— Отдохнули?
Вроде бы отдыха не получилось, но Маша опять кивнула утвердительно. Хороший парень Володя Пины. Летает себе над Чукоткой и, наверное, счастлив. Был у Маши другой вот такой же знакомый — Юрий Анко, первый эскимосский поэт, первый летчик. Чем-то они оба похожи на Андрея Пинеуна.
Пусть мы уедем далеко,
Пусть даже в небо залетим,
В родной Уназик все равно
Мы возвратиться захотим…
На первый взгляд не очень много поэзии в этих строчках. Но здешние люди вообще немногословны. И уж если Анко сказал: «В родной Уназик все равно мы возвратиться захотим», — значит, очень дороги были ему этот берег, омываемый студеными волнами сурового моря, эти обрывистые скалы и маленькие яранги под ними. Из самой далекой дали видел Анко родной Уназик и всегда держал на него курс.
Маша впервые встретила Анко в Анадырском педучилище. Юрий пришел туда уже взрослым человеком, поработав слесарем на Анадырском рыбокомбинате. Потом он уехал учиться в Ленинградский пединститут, но вскоре перевелся оттуда в военное училище. Это был кратчайший путь к мечте — стать летчиком. Он все осуществил, к чему стремился, — стал летчиком, выпустил первую книжку стихов и, как сказал Андрей, погиб на пороге счастья…
И еще очень верно говорил Андрей: «Все мы дети первого ревкома, дети Тэвлянто, Отке, первых наших русских учителей. Пока мы будем помнить это, будет уверенность, будет настоящая цель в жизни и настоящая твердая земля под ногами…» Если всерьез посмотреть, то и у нее самой, и у Андрея Пинеуна, и у Юрия Анко, и Володи Пины вся жизнь была посвящена продолжению дел, начатых первым ревкомом — Тэвлянто, Отке, Скориком…
И совсем напрасно мы стесняемся порой говорить об этом вслух. Чем худо гордиться таким родством? Может быть, кричать об этом не стоит, но гордиться нужно.
…Володя Пины, как видно, понял, что Машу нынче не разговоришь. Он извинился и пошел к себе, в пилотскую кабину. Напоследок сказал:
— Сейчас будем садиться. Заправимся, возьмем почту — и прямым курсом на Анадырь.
Когда приземлились, Маша вышла из самолета. Володя звал пить чай, но она отказалась. Стояла возле деревянного здания и будто впервые присматривалась ко всему.
Высокие сопки красиво уходили в темнеющее небо. За заснеженной, застывшей бухтой гремел портовый поселок. Маша любила здешние крутые улицы, идущие лесенками вверх, их городскую щеголеватость.
Почему-то вдруг вспомнилась одна из поездок сюда. Всего только одна из многих десятков. Она шла к самолету через пустырь, на котором паслись коровы, и в ушах назойливо звенела песенка Раджа Капура из кинофильма «Бродяга». Когда же это было? Неужели прошло так много лет? За это время почти вся Африка стала независимой, прекратилась война в Корее, вспыхнула война в Индокитае…
Маша шла вон там, под теми радиомачтами, остерегаясь коров, и опоздала на самолет, улетавший в Чукотский район.
«Не опоздать бы и сегодня», — с тревогой подумала она и инстинктивно посмотрела на темнеющее небо. Но тут же подосадовала на себя: «Забыла, что Анадырь принимает теперь самолеты круглые сутки».
В этот вечер была удивительная тишина. В зимнем безмолвии природы было что-то от настроения самой Маши, от ее горя. И вдруг грянул оглушительный голос:
— Мария Ивановна Тэгрынэ!
Маша вздрогнула: Оказывается, она стояла под самым репродуктором, укрепленным на высоком столбе.
— Мария Ивановна Тэгрынэ! — снова прогрохотал голос диктора. — Вас просят пройти на пвсадку.
Маша поспешила к самолету.
Стоит хоть на два-три дня наладиться погоде, и пустеют северные аэропорты и станции, люди разлетаются по своим местам до следующей пурги, до следующего ненастья, когда пурга сведет их снова где-нибудь…
В Анадыре самолет сел при свете прожекторов. Диспетчер сказал Маше, что заночевать ей придется по ту сторону лимана, в окружной центр ее доставят завтра утром. Анадырский лиман еще не замерз. Вода в нем будет дымиться в морозные дни почти до нового года. Сообщение с городом поддерживается в это время года только по воздуху.
Ну что же, это даже лучше. Есть еще одна ночь для того, чтобы хорошенько подумать над своей дальнейшей судьбой.
Маша прошла в приготовленный для нее номер. Роскошно стали жить в Анадыре! В номере были две комнаты, телефон, на столе стоял графин со светлой водой.
Не успела она снять пальто, как телефон зазвонил. Это был, конечно, Петр Ходаков.
— Поздравляю с благополучным прибытием! Как устроились?
— Прекрасно, — устало ответила Маша, — буду отдыхать.
— Отдыхайте на здоровье, а завтра встретимся… Да, чуть не забыл: тут пришел ваш багаж, четыре больших ящика. Поставили пока в наш склад…
Багажом Маша направила из Москвы книги. Богатство, накопленное за все время учебы. Вот уж не думала, что книги так трудно перевозить. Пришлось целый день связывать их в пачки, потом паковать в большие ящики. Маша не очень верила представителю транспортного агентства, уверявшему, что книги дойдут до Анадыря в полной сохранности, — в газетах часто ругали эти агентства, но вот все же оказывается, что работать они умеют.
Вспомнились опустевшие книжные полки в покинутом домике Андрея Пинеуна. Хорошо бы на эти не очень чисто оструганные доски поставить свои книги. Сейчас в том домике никто не живет. Дверь занесло снегом, молчит телефон, остыла и покрылась инеем плита. Даже тропка, по которой столько хожено, исчезла под толстым слоем снега. Когда смотришь со стороны селения, с главной улицы, домика совсем не видать, если в нем не топится печь, не дымит труба…
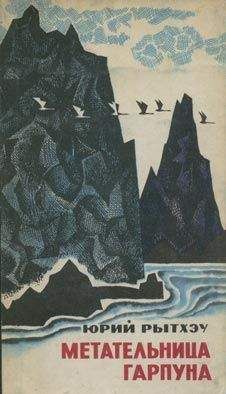
![Юрий Рытхэу - Люди нашего берега [Рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/149502/149502.jpg)



