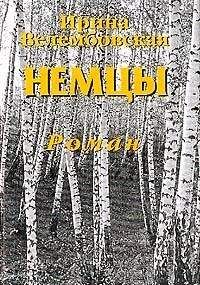Ознакомительная версия.
Тот ожесточенно бросал лопатой землю и ничего не отвечал. Ветер рванулся в их сторону, и пришлось отступить и приняться за новую канаву. Огонь противным зверьком бежал вслед, в воздухе кружились почерневшие листья. Деревья, которых миновало пламя, стояли черные и страшные.
— Бесполезная работа! — бросив лопату, заявил Чундерлинк. — Разве мы можем остановить этот сумасшедший пожар?
Ландхарт грязной от копоти рукой указал ему туда, где успели выкопать широкую канаву: огонь лизал ее край и дальше не шел.
— Все равно, стоит подуть сильному ветру, огонь переметнется по вершинам деревьев, — устало сказал бывший художник. — Я ужасно есть хочу. За весь день нам дали только по восемьсот грамм хлеба! — он все жаловался, но Ландхарту некогда было его слушать.
Лаптев вместе с немцами рубил молодой кустарник, к которому рвался огонь. Комбат стал так черен, что его можно было отличить от остальных только по маленькому росту и военной форме. «Эх, кабы дождь, — тоскливо думал он, поглядывая на безоблачное небо, заслоняемое летящей гарью, — сколько добра пропадает!».
До самой ночи рыли канавы и забрасывали огонь землей. К ночи ветер стих, и огонь вперед уже не рвался.
Лаптев приказал отойти подальше от пожарища и расположиться на ночь. Немцы с жадностью набросились на хлеб и сваренную похлебку. Некоторые ели в этот день только в первый раз. Было жарко и почти светло от пылающего невдалеке леса. Лаптев смыл с лица сажу и с удовольствием съел кусок ржаного хлеба, запив его водой. От копченого мяса, которое Вебер разделил между всеми, он отказался.
— Всем ложиться спать! — приказал он. — Разбужу на рассвете.
Немцы разворошили копна свежего сена и улеглись. Лаптев лег тоже и, как ни боролся со сном, вскоре заснул. Рядом с ним спал Вебер, обняв обеими руками большой мешок с хлебом, который поручил ему охранять комбат. Вебер похрапывал, но руки его цепко держали мешок Ландхарт не спал. У него сильно саднил ожог на руке, которую он замотал грязной тряпкой, и очень хотелось есть, но не это сейчас мучило его и не давало заснуть. Как все эмоциональные люди, он не мог спать после сильных впечатлений, пережитых за день. Перед его глазами стояла ужасная картина огня, пожирающего свежую зелень, красоту и мощь лесной чащи, неумолимо превращающуюся в черное, дымное пожарище.
Сзади послышался шорох, и Ландхарт увидел Чундерлинка, который пытался взрезать перочинным ножом мешок с хлебом. Вебер спал как убитый. Через минуту Чундерлинк уже прятал свою добычу в сене. Ландхарт хотел закричать, но неожиданно вспомнил, как сам когда-то украл кусок хлеба. Он только тяжело вздохнул и отвернулся.
Весь следующий день снова прошел в борьбе с огнем. На покосы его не пустили, но гектаров десять леса выгорели почти дотла. Два дня Лаптев проработал рядом с немцами. Большинство из них самоотверженно отбивали у огня лес и покосы, словно это была их собственная земля, а не чужая, ставшая местом их плена. Этого он не мог не оценить, но его все время преследовала мысль, что, попади он сам в плен к немцам, ни за что бы не стал работать на них. Может, так они пытаются искупить свою вину? Да только эти-то чем виноваты?
К вечеру на подмогу приехал со своей ротой Звонов. В ту же ночь набежавшая неизвестно откуда туча осыпала пожарище крупным дождем.
— Давно бы мне приехать, — пошутил Звонов. — Это я дождичка привез!
Огонь угасал, пожарище дымилось, всюду лежали груды золы и пепла, торчали черные обугленные пни. Десятка два неизвестно как уцелевших высоких сосен одиноко покачивались, лишенные коры, сучьев и хвои.
Лаптев вернулся с пожарища грязный и мокрый. Татьяна только ахнула, а теща бросилась топить баню.
— Как Люська выросла! — заглянув в качку, удивился Лаптев.
— Мы ее кашей вчера кормили, — сообщила Нюрочка. — А Петьку Штреблева в лес увезли, к отцу.
Не успел Лаптев вымыться в бане, как за ним прислали из штаба батальона. Он допил чай и ушел. Вернувшись домой к вечеру, он быстро собрался и с ночным поездом выехал в Свердловск.
— Вот уж жизнь! — ворчала теща. — С семьей побыть некогда! Поехал опять по вагонам вшей собирать!
Лаптев вернулся через три дня. Теща опять погнала его в баню.
— Ты что улыбаешься? — с любопытством спросила Татьяна, когда он, красный и распаренный, уселся за стол. — Аль по займу выиграл?
— Рад, что дома, вот и улыбаюсь, — загадочно подмигнув ей, ответил Лаптев.
Когда собрались спать, Татьяна шепнула мужу:
— Мне бы тебе слова два сказать надо…
Лицо у нее было озабоченное, и он насторожился.
— С Аркашкой опять чего-нибудь?
— Нет, я насчет Тамарки… Знаешь, я ведь неспроста ее в Карелино угнала. А теперь жалко… Она, Петя, в немца влюбилась, в этого… в Штребеля, который с ребенком… А тут Сашка Звонов мне житья не дает. Свадьбу к осени ладят. Как мне быть с ними, Петя?
Лаптев задумался.
— Тамару жалко. Сколько времени в лесу одна с немцами работает! А Штребль парень красивый, высокий, как не влюбиться? Ну, ничего, погоди, скоро, может быть, этот вопрос сам собой разрешится.
В Свердловске Лаптев получил приказ готовить транспорт в Румынию, поэтому и вернулся домой такой довольный. Но даже жене ничего не сказал. Сообщил только в штабе батальона да старосте лагеря Веберу, строго-настрого приказав держать эту новость в секрете. Однако немцы по счастливому лицу своего старосты сразу догадались, что произошло какое-то важное и радостное событие. Вебер на их вопросы ничего не отвечал, лишь кивал головой, пряча улыбку, из чего нетрудно было догадаться, что скоро будут отправлять домой. Все терялись в догадках: кого же отпустят теперь? Среди интернированных почти не было больных, не было и маленьких детей, кроме ребенка Штребля.
Лаптев просмотрел все списки интернированных и поставил возле некоторых фамилий таинственные крестики. Большая часть этих крестиков приходилась на фамилии женщин, и вообще крестиков было очень много. Добрый Вебер не сумел скрыть и этого. Немки сделались сами не свои, работать совсем не могли, только все перешептывались друг с другом.
Как только Лаптев появился в лагере, они окружили его, принялись плакать и, несмотря на отчаянное сопротивление Лаптева, пытались ухватить его руку, чтобы поцеловать.
— Скажите нам правду, господин лейтенант! Отпустите нас к детям, милый, хороший, замечательный господин офицер!
Крестьянки повалились на колени. Лаптев совсем растерялся.
— Встаньте, встаньте вы, пожалуйста! Да, да, скоро поедете домой. Руку-то мою пустите! Эх, какие глупые! Руку-то зачем целовать? Этого еще не хватало!
Наконец магические крестики возле фамилий, поставленные Лаптевым, обрели ясные очертания: домой отправляли всех женщин, а также мужчин — венгров, румын, чехов. Всего уезжало более двухсот пятидесяти человек. Это было вдвое больше, чем прошлой осенью. Теперь никого не страшили слухи «о шахтах Донбасса»: еще зимой пришли из Румынии письма. Все добрались живыми и здоровыми, и только один из бёмов, приехав домой, съел слишком много вареной грудинки и помер.
Счастливый носился по лагерю Чундерлинк и каждому по секрету сообщал, что против его фамилии тоже стоит крестик. Он был чех, всю жизнь проговоривший на немецком языке. Уезжал венгр Иоганн Хорват. С ним ехала и его хорошенькая Нелли.
— Что же ты молчишь, Рудольф? — удивленно спросил Раннер Штребля, когда весть о новой отправке дошла и до лесорубов. — Ты же вполне можешь считать себя венгром. Много ли в тебе немецкой крови?
— Ты почти прав, — мрачно ответил Штребль. — Моя мать была венгеркой, ходил я в венгерскую школу. Думаю я почти всегда по-венгерски, хотя говорю по-немецки. А то бы меня русские совсем не поняли. Но мой отец все-таки был немцем. Удивляюсь я: что это все пытаются доказать, что они не немцы? Где же наше национальное достоинство?
— Да ну тебя! — отмахнулся Раннер. — Я назвал бы себя хоть сволочью, лишь бы поехать домой. Ведь все же спешат увидеть жен, родителей, детей! Тебе хорошо рассуждать — тебя дома никто особенно не ждет.
— Да, мне хорошо, у меня все здесь, — Штребль зло усмехнулся.
Вечером он играл с сыном. Петер лежал на кровати и ловил палец отца, который тот то протягивал, то отдергивал. Мальчишке шел пятый месяц, и он становился день ото дня все забавнее. Штреблю пришлось теперь самому возиться с ним — всех женщин увезли в лагерь для отправки.
— Ну, товарищ по несчастью, не пора ли тебе спать? — спросил он, когда возня с сыном стала его утомлять, — на твоем месте я бы только и делал, что спал.
За окнами загремели колеса повозки, и через минуту в барак зашел Колесник.
— Собирайся со всем барахлом, — велел он Штреблю. — И парня бери. Засветло чтобы нам в лагерь поспеть.
Штребль оторопел.
Через полтора часа он со спящим Петером на руках и мешком за плечами входил в ворота лагеря. Его встретил Ёзеф Вебер. Он осторожно взял ребенка и нежно прижал к себе.
Ознакомительная версия.