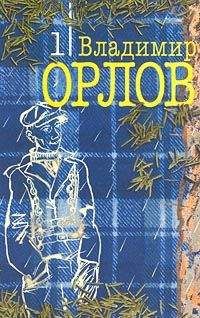Ознакомительная версия.
Взяла его Надя под руку и вела, а куда? Не все ли равно, она была его невестой или женой, только сегодня в Сосновском сельсовете их поздравляли, и теперь она вела его за собой и была счастлива, но тут Терехов увидел Олега, Олег улыбался, а веко у него дергалось и щека тоже, Терехов вспомнил все и отвел Надину руку.
– Ты куда, Павел? Ты бы с нами посидел… Какие мы молодцы!..
– Пойдем в наш угол, Павел, – предложил Олег.
– Сейчас, сейчас, – заторопился Терехов, – мне только нужно Севку найти. Он меня искал, я ему зачем-то нужен.
Он уходил от них быстро, и они, наверное, смотрели в его спину, он уходил от них, как убегал, отыскивал Севку за столами и не мог найти, думал, шагая: «Кого она обманывает? Меня, его, себя… И зачем это?..»
Севка спал, уткнувшись носом в руки, уложенные на столе среди консервных банок, стаканов и тарелок с печеньями. Горячий воск капал на Севкин рукав и застывал лаком. Терехов отодвинул свечу и неожиданно для самого себя по-отечески погладил приятеля по голове. «Ну спи, спи, притомился ты за эти дни, ну и отдыхай…» Вряд ли мог заснуть Севка в минуты шумных балаганных танцев, наверное, сон словил его исподтишка в тот самый момент, когда Севка привел Терехова из сеней в веселый свадебный зал, а потом, потерявшись, прибился к этому дальнему столу. Но он что-то хотел сказать, вела его в коридор не разгаданная Тереховым цель, она стала теперь тайной, а потому и интересовала его. Терехов и сам не прочь был рассказать Севке, как им с Надей хорошо было в танце и как она глядела на него, чуть ли не влюбленно, и, может быть, Севка прав, может быть, на самом деле Надя весь сегодняшний праздник затеяла из-за него. Потом Терехов подумал, что приятеля надо будет отвести домой и уложить в постель, зачем ему тут сидеть, разморит его еще, и Терехов встал и попытался приподнять Севку, но тут он услышал, что Олег начал читать стихи.
Тогда он оставил Севку и опустился на стул, потому что неудобно было сейчас вести Севку через весь зал и мешать Олегу читать стихи. К тому же Терехов любил слушать чтение Олега, на память тут же приходили видения солнечной влахермской поры, счастливой хотя бы потому, что, отодвинувшись в прошлое, она обзавелась радужным ореолом, да и читал Олег хорошо, и, может быть, стоило в свое время податься ему в мастера художественного чтения. Терехов притих, как притихли все, и смотрел на Олега, худого, бледного, застывшего на фоне идиотского плаката, дружеского шаржа или чего-то в этом роде, и снова был перед глазами Терехова парнишка, сидевший на парте героя, брат погибшего друга, сам из племени героев. Олег словно бы забыл о всех и читал стихи только для себя, почти без жестов, пробуя на слух слова из ювелирной мастерской поэзии, вновь переживая их откровения, и получалось так, что он читал для всех, и все принимали его волнения и раздумья, хотя многие и не знали, чьи стихи он читает, да и вообще стихи не уважали. «Летун отпущен на свободу. Качнув две лопасти свои, как чудище морское в воду, скользнул в воздушные струи. Его винты поют, как струны… Смотри: недрогнувший пилот к слепому солнцу над трибуной стремит свой винтовой полет…» «Может, может быть, когда-нибудь дорожкой зоологических аллей и она – она зверей любила – тоже ступит в сад, улыбаясь, вот такая, как на карточке в столе. Она красивая – ее, наверно, воскресят. Ваш тридцатый век обгонит стаи сердце раздиравших мелочей. Нынче недолюбленное наверстаем звездностью бесчисленных ночей…» Олег читал тихо или это только так казалось, и была какая-то печальная строгость в его лице, отрешенность от всего, что было перед его глазами, но иногда, когда стих взрывался горячностью мысли или буйным словом и голос Олега гремел, появлялась в нем ярость и неистовость пророка, и сам Олег как бы вырастал и становился могучим. «Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами! Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы, с раскосыми и жадными очами!.. Привыкли мы, хватая под уздцы играющих коней ретивых, ломать коням тяжелые крестцы, и усмирять рабынь строптивых…» И от мощи и ярости Олеговых слов сам он становился вдруг особенным человеком, на самом деле пророком, а порой голос Олега словно бы будил у парней и девчат скрытые доселе, неизвестные им самим силы. Олегу не хлопали, поэтов он не называл, и Терехов многие стихи слышал впервые, только светловскую «Гренаду» он узнал. Олег замолчал, опустил голову и стоял так, кончил, наверное, и все молчали, были взволнованы стихами, и Олег казался им прекрасным, и они благодарили его, и любили его, и были в состоянии порыва, и если бы Олег повел их сейчас за собой, они пошли бы за ним, как за пламенным Данко. Терехов сидел и стучал пальцами по столу, ему хотелось подойти к Олегу и сказать ему добрые слова, беспокойство вчерашних дней уплыло, мало ли что могло померещиться, Терехову было стыдно, сильный и страстный человек стоял у стены, и понятно, почему Надя полюбила такого. Тишину разбили аплодисменты и крики, сейбинские с шумом стали подходить к Олегу, жали ему руки, а он стоял, усталый, выложившийся. Надя подскочила к нему, и Терехов увидел, какие у нее были глаза.
Потом свадебный вечер успокоился и вошел в свое испробованное русло, а Терехов все сидел возле спящего Севки и смотрел на Олега и Надю. Олег был молчалив, углублен в свои мысли и рассеян, а Надя все болтала, и глаза у нее были влюбленные и восторженные. И теперь, когда перестал действовать гипноз Олеговых пламенных слов, Терехов расстроился, теперь ему казалось, что полчаса назад Надя обманывала его и даже издевалась над ним, ведь она знает, не может не знать, не может не чувствовать, что он любит ее, и не надо было тянуть его в эти сумасшедшие танцы. Обида забрала Терехова, и он сердито налил себе в стакан водки. Сучок был противен и неожиданно тепел, бутылка зеленым своим боком пригрелась к банке со свечой. Терехов долго морщился и ворчал, вилкой пытаясь выловить томатного бычка. Он ворчал и на себя, потому что пить ему было не надо, он это еще сознавал и собирался уйти быстро и незаметно, чтобы не вытворить сгоряча и спьяну какой-нибудь глупости. Но он не ушел, не поднялся с места, а так и сидел и смотрел на Олега и Надю и теперь уже был уверен твердо в том, что она над ним издевалась, обманывала его, посмеиваясь в душе, и все же глаза ее выдали. «Ну ладно! – сердился Терехов. – Ну хорошо!»
То ли он грозил этими словами кому-то, то ли себя старался успокоить, держал пальцами пустой стакан, порожнюю посуду, и покачивал его, глядел, как вспыхивают стеклянные грани. На секунду ему показалось, что холодное стекло загорелось, но мало ли что может показаться на секунду, мало ли какие чудеса могут померещиться простодушному уму, его-то, Терехова, жизнь жестоко отучивала от этого простодушия, наивные люди из восемнадцатого века могли кинжалом и ружьем зарабатывать себе памятник любви, впрочем, только ружьем, а кинжал отобрали, дочка барона из белого дворца, у которой отняли кинжал, преспокойно рожала детей, а бедный лесничий истлевал под чугунным памятником любви, раздавившим его, и вокруг прыгали зеленые лягушки с большими глазами, зеленые лягушки из консервных банок, украшенных свастикой, а под замком в парке живут улитки, готовятся лететь во Францию, набивать желудки, скрипят в тесных ящиках и стонут… Или это стонет Рогнедина боль и боль ее дочерей… Фу-ты, какая чертовщина! Все крутится, пусть все остановится, пусть все утихомирится, где тут большая карта? Есть же успокоительный эффект Ермакова!.. Или так крутит всех танец, и он не кончится, и не исчезнет расстояние между ним и ею, отмеренное навсегда, ни он, ни она не смогут шагнуть друг другу навстречу.
Терехов встал.
Он шел покачиваясь, тяжело, туда, где у стены напротив плыли в танце Олег и Надя. Он сознавал, что выкинет сейчас такое, о чем запомнят все, он еще не знал, что он им преподнесет, и тут он увидел валявшийся на стуле пробензиненный витой жгут, забытый Соломиным. Терехов обрадовался, прихватил жгут, чуть было не усевшись на пол, и теперь он двигался, помахивая жгутом, и улыбался, как ему казалось, снисходительно. Остановился возле Олега и Нади, расставив ноги, и застыл так.
– Чем же вас, – сказал Терехов, – развеселить?
Олег и Надя смотрели на него с удивлением, и улыбки гасли на их лицах.
– Вам не скучно? – засмеялся Терехов. – Хотите, я проглочу огонь?
Он достал спички и, вспоминая, как это делал Соломин, поджег жгут. Он поднял жгут вверх, и огонь стал рваться из его рук под потолок. Он стоял и видел Надины испуганные глаза, верил в то, что сейчас он повторит рискованный фокус Соломина, станет заклинателем огня, усмирит его, подчинит себе, и огонь не обожжет его, пожалеет его. Терехов открыл рот и назло всем опустил жгут, но Надя подскочила к нему, с силой выдернула жгут из его рук, бросила на пол и стала топтать пламя. И когда пламя исчезло, дым испустив, Надя подняла глаза, и они с Тереховым зло посмотрели друг на друга.
Ознакомительная версия.