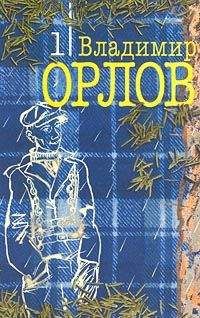Ознакомительная версия.
Терехов встал.
Он шел покачиваясь, тяжело, туда, где у стены напротив плыли в танце Олег и Надя. Он сознавал, что выкинет сейчас такое, о чем запомнят все, он еще не знал, что он им преподнесет, и тут он увидел валявшийся на стуле пробензиненный витой жгут, забытый Соломиным. Терехов обрадовался, прихватил жгут, чуть было не усевшись на пол, и теперь он двигался, помахивая жгутом, и улыбался, как ему казалось, снисходительно. Остановился возле Олега и Нади, расставив ноги, и застыл так.
– Чем же вас, – сказал Терехов, – развеселить?
Олег и Надя смотрели на него с удивлением, и улыбки гасли на их лицах.
– Вам не скучно? – засмеялся Терехов. – Хотите, я проглочу огонь?
Он достал спички и, вспоминая, как это делал Соломин, поджег жгут. Он поднял жгут вверх, и огонь стал рваться из его рук под потолок. Он стоял и видел Надины испуганные глаза, верил в то, что сейчас он повторит рискованный фокус Соломина, станет заклинателем огня, усмирит его, подчинит себе, и огонь не обожжет его, пожалеет его. Терехов открыл рот и назло всем опустил жгут, но Надя подскочила к нему, с силой выдернула жгут из его рук, бросила на пол и стала топтать пламя. И когда пламя исчезло, дым испустив, Надя подняла глаза, и они с Тереховым зло посмотрели друг на друга.
– Ты с ума сошел, Павел, – сказала Надя.
– Ах так, – обиделся Терехов. – Значит, никому не нужно мое искусство? Тогда я уйду.
Он повернулся и пошел к выходу.
– Погоди, – догнал его Олег. – Ты не можешь уйти от нас в такой день. Ты нас обидишь…
– Терехов, останься, – сказала Надя.
– Нет, мне тут делать нечего, – заявил Терехов. – Неужели вы сами это не понимаете…
– Ты нас обижаешь, Павел…
– Не упрашивай его, Олег, – сказала Надя. – Видишь, какой он…
– А какой я? Какой я?
– Ты нас обижаешь, Павел…
– А, пошли вы… – сказал грубо и с отчаянием Терехов и, не глядя ни на кого, отправился к двери.
На вешалке он с трудом отыскал свой плащ, догадался переобуться, натянул сапоги, а ботинки оставил в столовой и, плечом нажав на дверь, нырнул в мокрую ночь. Ветер был холодный и резкий и заставил Терехова поднять воротник плаща. Терехов все еще ворчал про себя, бродил по черному поселку без всякой нужды и цели, упал однажды, поскользнувшись, и долго в ручье смывал грязь с плаща, вытащив фонарик, решил, что ему необходимо спуститься к Сейбе и посмотреть, как там она и как там мост. Дорога к Сейбе была долгой и трудной, а голова у Терехова – смурной, и все же он добрался до травяного берега, а добравшись, как и в воскресенье, ничего не увидел. Но он не ушел, а стоял и слушал Сейбу, успокаиваясь и трезвея.
В сторожке, когда он возвращался в поселок, Терехов увидел свет, старик попался вымуштрованный веком и к распоряжениям временных начальников относился, видимо, скептически. Терехов улыбнулся и побрел дальше. Было тихо и черно, сейбинские жители сидели в тепле, и только на крыльце женского общежития Терехов заметил черную фигуру. Он посветил фонариком и удивился.
– Илга, это ты? – сказал Терехов. Он растерялся и не знал, как говорить с ней. – Что ты тут делаешь?
– Я тебя жду.
– А зачем?
– Я и сама не знаю, – сказала Илга.
Терехов сунул фонарик в карман и не спеша поднялся на крыльцо. Илга была рядом, но он не видел ее лица и ее глаз, слышал, как часто она дышит.
– И давно ты меня ждешь?
– Не знаю. Не помню.
– Ты не промокла?
– Не знаю.
– А что ты знаешь?
– Что я тебя люблю.
Она произнесла это тихо и печально и словно бы для себя самой, а не для него. Терехов шагнул к ней, нашел ее руки, стал гладить ее пальцы, волосы ее мокрые, и мокрый лоб, и мокрые щеки. Он притянул ее к себе и целовал ее, и она целовала его, губы у нее были мягкие и теплые. «Терехов, – шептала она, – Терехов…», а Терехову было хорошо, и снова явилась добрая мысль, что только в этой ласковой женщине и живет его истина, его радость и его успокоение, а остальное – не все ли равно, остального нет, и Терехов был благодарен Илге, что она оказалась с ним на одной земле, на одной саянской планете, под черными дождями. Илга прижалась к нему и все шептала: «Терехов… Терехов…», он тоже говорил ей что-то и не обманывал ее, она смеялась и целовала его, и Терехов смеялся, но вдруг Илга напряглась, дернулась в сторону и потом, упершись в его грудь ладонями, оттолкнулась от него и, повернувшись резко, шагнула в коридор общежития.
Терехов растерялся и пошел за ней не сразу, коридор был пустой и тихий, жители его веселились сейчас в столовой, Терехов нашел Илгину дверь и, нажав на нее, понял, что она заперта изнутри, Илга стояла за дверью, Терехов это почувствовал, и ему послышалось, что она плачет.
– Перестань, Илга… Отопри…
– Нет, нет, нет!
– Открой, Илга. Пусти.
– Ты ее любишь!.. Ты ее любишь!..
– Не надо, Илга…
– Ты ее любишь! Ты Надю любишь! Уходи!..
– Я никуда не уйду. И ты это знаешь.
– Замолчи, Терехов… Не надо…
– Пусти, Илга…
– Нет, нет, нет! Ты любишь Надю!
Она всхлипывала, а потом замолчала, может быть, ждала, что он скажет сейчас: «Не люблю я Надю. Я люблю тебя», наверное ждала, только этих слов ей и надо было, полетел бы крючок вверх, вымаливала она эти слова у Терехова.
– Не все ли равно, – сказал Терехов хмуро. – Кто знает, как будет дальше. Мало ли как повернется все дальше.
– Уходи, Терехов, я прошу тебя…
– Я не уйду. Открой.
– Уходи. Ты ее любишь…
– Ты хочешь, чтобы я выломал дверь?
– Тогда я убью тебя!
– Вот это любовь, – сказал Терехов.
– Уходи, уходи, уходи…
Последнее «уходи» совсем тихо, как мольба, как гаснущая надежда, и потом молчание, молчание, которое нельзя было вытерпеть, и Терехов, забеспокоившись, сначала слабенько постучал в дверь, точно боялся, как бы Илга не сотворила чего, ведь росла она в городе с чугунным памятником любви, потом стал стучать громче и забарабанил, забарабанил так, что доски дверные затрещали, повторял: «Открой, Илга! Открой!», не заботился о том, услышат ли его вокруг, появятся ли любопытные носы, барабанил кулаками с досадой, но вдруг подумал: «А зачем? К чему это все…», и Терехов опустил руки и пробормотал:
– Ну ладно. Ну как хочешь.
И он, нахмурившись, пошел коридором, остывал, все еще надеялся, что Илга не выдержит и выскочит за ним следом, но дверь не открылась, и тогда Терехов сказал себе: «Ну и дура… Мало ли как все могло повернуться в жизни… Ну и дура». Он шел к своему дому, ссутулившись, усталый и разбитый.
– Терехов, один известный тебе человек желает поговорить с тобой. Я это чувствую.
Чеглинцев стоял перед Тереховым на страдалице доске, плавающей в грязи, и улыбался. Дождевые капли бежали по его носу и щекам.
– Ты, что ли, этот известный человек?
– Лично товарищ Испольнов. Василий.
– Где он?
– Нынче дома и один.
– Он тебя послал за мной?
– Послать он не мог, потому как мы с ним в разных организациях. А намекать – намекал.
– Поговорить захотел?
– А почему бы перед отъездом и не поговорить?
– Когда отъезд-то?
– Скоро. Говорят, вода в Сейбе начала спадать.
– Голова у тебя болит?
– Немного есть. А у тебя?
– Болит. Слушай, я здорово пьян был вчера?
– Ты? Да нет, не заметил. Танцевал, помню, отчаянно.
– Я сегодня с трудом встал. Вдруг увидел – солнышко. Луч на полу. Вот обрадовался! А потом снова дождь.
– Соломин шепотом уговаривал Испольнова остаться. Думал, что я сплю.
Они шли медленно, прогуливались, как курортники в счастливом санаторном забытьи, дышавшие после обеда лечебным воздухом. Сопки стояли вокруг взлохмаченные и мокрые, и облака гуляли по ним.
– Слушай, – сказал Терехов, – ты все около Арсеньевой вертишься. Ты серьезно или просто так?
– Просто так. А тебе-то какое дело?
– Я же ее сюда привез. Мне и отвечать. Хотел, чтобы жизнь у нее наладилась.
– А может, я и есть наладчик? Может, у меня серьезные намерения…
– Знаю я твои намерения… А ей сейчас очередной кобель не нужен… Иначе все по-старому пойдет… Я тебя прошу…
– Ладно, – сдвинул кепку на лоб Чеглинцев. – Если ты просишь… Я-то не обеднею…
– Слово даешь?
– Ну даю… Я вообще остепениться решил. Такие у меня планы. Доучиться хочу. Вы с Севкой в Курагине учились?
– Да. Сколько у тебя классов?
– Девять. Но я девятый хочу повторить. Все забыл. Придется по вечерам таскаться в Курагино.
– Вот и пришли.
– Валяйте поговорите, а у меня есть дела. Пока.
Чеглинцев уходил стремительно, словно Испольнов мог выскочить сейчас на крыльцо и пригласить его участвовать в разговоре, былинный богатырь убегал нашкодившим второгодником, и Терехов улыбнулся ему вслед.
Испольнов сидел за столом в рыжей ковбойке, ворот расстегнув, и морщил лоб. В комнате было жарко, печка пыхтела, черные портянки и ватные штаны были разложены на ней, ароматили воздух. Испольнов заулыбался, улыбка его, как всегда, была нагловатой и ироничной, но и чуть заискивающей.
Ознакомительная версия.