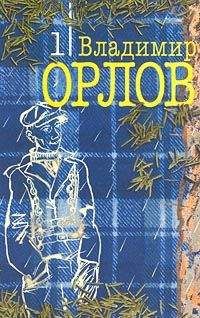Ознакомительная версия.
«Не было печали!» – выругался Терехов и распорядился выставить на мосту ребят с баграми и шестами в ожидании деревянных таранов. Он предложил Севке отдохнуть, но тот мотнул головой:
– А хлеб кто вам привезет?
– Бог тебе в помощь, – сказал Терехов.
Разобравшись с делами в конторе, Терехов собрался было сходить к мосту, но тут он почувствовал неожиданное равнодушие к судьбе деревянной махины, то ли шло это безразличие от придавившей его усталости, то ли еще от чего. «А-а, катилось бы все к черту!» – выругался Терехов и решил отправиться в общежитие, посидеть в пустой и спокойной комнате полчаса, подремать полчаса или хотя бы побриться, воспоминание о вчерашней, пусть минутной, свежести после бритья было Терехову приятно и тянуло его в сырой приземистый дом. Печку разжигать пришлось бы долго, а тушить ее сразу было бы жалко, и Терехов надумал обойтись холодной водой. Он вытащил лезвие, последнее и давнее, купленное еще в Красноярске, притащил в блюдечке воды, но, когда присел у стола, шевельнуть рукой не мог, так и застыл, уставившись на дождевые дорожки, сбегавшие по стеклу. Голова уже не болела, но к ощущению усталости прибавились похмельная сквернота и недовольство собой, недовольство всем, что в его жизни приключилось, и Терехов вовсе не успокаивался, а мрачнел, и раздражался, и ругал себя, и стыдил себя, и все ругал, а за что, сам не знал, впрочем, это не имело значения.
– Терехов, можно к тебе?
Терехов обернулся.
На пороге стояла Надя.
– Заходи, – сказал Терехов и снова повернулся к окну.
– Я не буду раздеваться, я ненадолго, а у вас так холодно.
– Как хочешь…
– Но плащ у меня очень мокрый, я его все же сниму…
– Сними…
– Ты занят, Павел?
– У меня перекур, – Терехов достал сигарету.
– Я тебе не помешаю?
– Наверное, нет.
– Но ты недоволен, что я зашла, да? Я вижу…
– Я просто устал, – сказал Терехов и встал.
Теперь, когда он прохаживался, как бы поджидая кого-то, от тумбочки и до стола, где он оставил лезвие, помазок и блюдце с холодной водой, он не смог удержаться и не взглянуть на Надю, прижавшуюся к стене. И, взглянув на нее, он удивился Надиному преображению, вчерашняя сверкающая королева бала померкла и постарела, и даже нечто скорбное и вдовье проявилось в мокром опущенном ее лице.
– Все мы устали, – сказал Терехов. И добавил, помолчав: – Снимай, снимай плащ. И не стой у порога.
Не было тепла в его словах, а была подчеркнутая вежливость, и Надя могла это почувствовать, но, когда, повесив плащ и платок, она обернулась к нему, на лице ее появилась улыбка, робкая и отчаянная, но все же улыбка, и Терехов нахмурился.
– Я был вчера пьян, – сказал Терехов, – извини, если я вчера доставил вам с Олегом неприятность.
Он произнес это старательно и предложил Наде сказанным позабыть все, что между ними было вчера, все его свадебные слова, танцы, шутки и прочие выходки, позабыть и посчитать, что в ответе за них вовсе не он, Терехов, а хмель, сидевший в нем.
Виноватая Надина улыбка погасла, исчезла, густые яркие волосы закрыли влажные синие глаза.
– Хорошо, – сказала Надя. – Я принимаю извинения.
Она опустилась на стул у Севкиной кровати, опустилась тяжело, не глядя, и волосы почти закрыли ее лицо. Она сидела молча, и Терехов прохаживался молча от тумбочки и до стола, дотрагивался иногда, сам не зная зачем, до помазка, чувствовал себя скверно, а Надино присутствие злило его и казалось ему бессмысленным и противоестественным.
– Почему ты меня не гонишь? – подняла голову Надя.
– А почему я тебя должен гнать? – спросил Терехов, так и не прекратив свое хождение.
Она не ответила, и вновь уселась между ними неуклюжая тишина, наблюдала за ними с ехидцей, и Надя ладонями быстро закрыла лицо, заплакала, зашептала, всхлипывая:
– Что я наделала!.. Что я наделала!.. Терехов, какая я дура… Господи, что я наделала!.. Зачем я!..
Терехов остановился, теребил нервно щетину на подбородке, суматошное свое желание подойти к Наде, успокоить ее он подавил жестоко, молчанием своим предоставляя Наде возможность выплакаться, раз уж она не могла сделать это где-нибудь в ином месте.
– Почему ты меня не гонишь? – спросила Надя.
Терехов пожал плечами, движением этим говоря: «А собственно, почему я тебя должен гнать? Меня уже ничто не волнует, и ничему я не верю, а этим слезам в особенности, к тому же мне уже все равно, и я сейчас спокоен, и, есть ли ты, нет ли тебя, мне безразлично».
– Хорошо, – сказала Надя, вытерла слезы. – Я больше не буду реветь. Ты меня извини.
– День чудесных извинений, – сказал Терехов и не улыбнулся.
– Да… – рассеянно сказала Надя.
Терехов, подумав, присел у окна, Надя была сбоку, за его плечом, и он на нее не смотрел.
– Ты знаешь, зачем я к тебе пришла?
– Нет, – сказал Терехов. – Не знаю.
А в голосе его было: «Не знаю, да и знать мне не интересно».
– Плохо мне, Павел, ох и плохо… Что я наделала…
Терехов обернулся, Надины слова, произнесенные, как ему показалось, с надрывом, его испугали, но он тут же понял, что относятся они к ее нравственному состоянию, а не к физическому и что не упадет она сейчас в обморок, не случится с ней удар, и он снова стал глядеть в оконное стекло.
– Ты меня не слушаешь, Павел?
– Слушаю…
– Ничего у нас с ним не выходит… С Олегом… Ничего… Что я наделала!
– Ты пришла, чтобы я тебя успокоил?..
– Не знаю, зачем я пришла…
– Ты сумасбродная девчонка. Ты сама это прекрасно знаешь… Через полчаса у тебя изменится настроение, и ты отругаешь себя за то, что приходила сюда.
– Нет, Павел. У меня не изменится настроение…
– Но ты хочешь, чтобы я тебя успокоил?..
– Ничего я не хочу… Я тебя люблю, Павел…
– Вот как? – удивился Терехов.
– Я тебя люблю, Павел…
– Зачем же тогда… – начал было Терехов, но осекся, почувствовав, что сказать ничего не сможет, да и не узнает ничего больше; сто раз ему казалось, что она любит его, сто раз он убеждал себя в этом, нервничал и расстраивался, сто раз он надеялся на то, что она любит его, а все остальное обман, и потом сам разбивал свои надежды, теперь же, услышав Надины слова, увидав глаза ее, он растерялся и не понимал, что ему делать, как быть ему, не понимал не разумом, а всем существом своим, как ему быть, как жить ему.
Надя смотрела ему в глаза и не отводила взгляда, и Терехов знал, что она сказала ему правду. Глаза ее были влажные, добрые и растерянные. Глаза ее были любимые, и нужно было подойти к Наде и обнять ее и целовать эти любимые глаза. Все, что было между ними раньше, все, что было между ними и другими людьми раньше, все стерлось, все не имело ни малейшего значения, ничего не было и вовсе.
– Ты мне не веришь? – спросила вдруг Надя.
– Не верю, – сказал Терехов.
Он сказал это и сам удивился, что произнес эти слова, удивился глупой и дешевой лжи их и их суровости и отругал себя, но стоял молча и не кричал: «Я вру, Надя, не верь мне…»
– Я понимаю тебя, – сказала Надя и опустила глаза.
Плакала она или нет, Терехов не видел, наверное, не плакала, а просто сидела отрешенная от всего, что было перед ней, и, может быть, о нем, Терехове, забыла, сидела сжавшаяся, ставшая вдруг маленькой, и Терехову было жалко ее, а подойти к ней он не мог.
– Конечно, после всего, что случилось, после вчерашнего, – проговорила Надя, – ты мне не будешь верить…
– А ты сама себе веришь? – обернулся к ней Терехов.
– Не знаю, – прошептала Надя, – ничего не знаю…
Она замолчала и снова как будто бы отключилась от всего, что было перед ней, силы истратив на признание, в которое теперь Терехов начинал не верить. Нет, он понимал, что Надя говорила искренне, и ей на самом дело было плохо, и сейчас, сию минуту, ей казалось, что она любит именно его, Терехова, и никого больше, но эта несчастная сия минута должна была пройти, не могла не пройти, и все встало бы на свои места, мало ли в Надиной жизни было подобных сумасшедших минут. Все и должно было встать на свои места, и вчерашний день со свадьбой при свечах никто отменить не мог, из памяти выкорчевать его никто не мог, и Терехов помрачнел, и обида завозилась в нем, подсказывая Терехову мысли злые, он стоял и уверял себя, что простить Наде вчерашний день никогда не сможет, он считал теперь, что Надя предает Олега и его собирается вовлечь соучастником в это предательство младшего брата.
– Я все время уверяла себя, что люблю его, а не тебя, – сказала Надя, – я все время успокаивала себя этим. И мне стало казаться, что я люблю его, а не тебя… Я поверила в это… А теперь все полетело.
– Да? – сказал Терехов.
– Ты мне можешь не верить, Павел, это твое право…
– Спасибо за это право…
– Или ты ничего не помнишь, Павел…
– Может, у вас начались семейные сцены? – сказал Терехов и понял тут же, что сказал пошлость, но не смутился, потому что ему хотелось говорить Наде слова грубые и сердитые.
Ознакомительная версия.