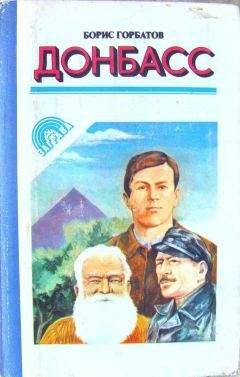В те дни как раз завязывалось соревнование между Виктором и Митей Закорко, знаменитое соревнование, затянувшееся на долгие годы и, оттого что оба соперника были парни молодые и ярые, сразу примявшее характер острой, почти спортивной борьбы. Вся шахта следила за этим поединком, равнодушных не было. Даже дядя Прокоп, как ни старался, как ни твердил свое излюбленное: «В одну топку уголек-то идет, в одну!» — не смог остаться безучастным и даже беспристрастным зрителем. Как-никак Виктор был его ученик, а Митю Закорко учил старик Треухов, Митин дядя по матери, — отца у Мити не было, его завалило в забое еще в 1923 году.
Это соревнование захватило Виктора всего, целиком и надолго. Начавшись в забое, оно тотчас же перекинулось и в рудничный клуб, где оба — и Виктор и Митя — играли в драмкружке, и в комсомольскую политшколу, и на стадион, и даже на танцевальную площадку. Как боевые петухи, носились оба, один — пламенно-рыжий, другой — черный, трясли чубами и старались переплясать друг друга… А однажды даже поспорили при всем народе: кто кого перепьет, и быстро напились оба.
А время меж тем незаметно шло да шло. Пробежал год, потом второй… Незаметно стали наши мальчики женихами, робкие ученики сделались завзятыми шах-торами. Как-то само собой перезнакомились они со всеми людьми на шахте, а со многими и сдружились, и теперь было куда ходить в гости по вечерам. И так же само собой, хоть и не сразу, признали их старики «Крутой Марии» и поверили, что эти хлопцы с шахты уже не уйдут, и стали считать их своими коренными, кадровыми, словно они и родились здесь, на Собачевке. И старухи забеспокоились, подыскивая им невест. А в парикмахерской, в столовой и даже в клубном буфете открыли ребятам кредит до получки. И за «столом ударника» в рудничной столовой были у них теперь свои, постоянные места. И когда в шахткоме распределяли талоны на промтовары или добавочные пайки, про них обязательно вспоминали. И ребята сами понимали теперь свои права и, не стесняясь, добивались их, особенно Виктор — его уже побаивались в конторе и связываться с ним не любили. И так же незаметно, но уверенно и прочно вошли наши ребята в постоянное, надежное рабочее ядро шахты и стали, как и дядя Прокоп, с насмешливым презрением смотреть на «протоплазму» — на летунов и сезонников, и болеть за славу «Крутой Марии», и жить ее жизнью, и теперь не вспоминали они так часто, как прежде, про Псёл и Чибиряки, и называли себя не полтавчанами, а донбассовцами, и гордились тем, что они донбассовцы, шахтеры, люди боевого фронта первой пятилетки.
В каждом из них произошли великие перемены с тех пор, как они приехали сюда, на «Крутую Марию», но сами ребята почти не замечали их, или, вернее, о них не думали. Они не думали о них потому, что перемены эти свершились не сразу, не вдруг, а постепенно, незаметно, капля за каплей, каждый день и в суете ежедневных дел и забот… Запоминались же внезапные события: отъезд товарища, чья-нибудь женитьба или смерть.
Так поистине великим событием в жизни ребят из «общежития дяди Онисима» была неожиданная женитьба Сережки Очеретина. Он сам объявил о иен товарищам в таких выражениях:
— Каюк, ребята, свободному орлу Сережке Очеретину! Поминай как звали. Женюсь!
— Да ну? — ахнули все. — На ком же?
Но Сережка только безнадежно махнул рукой, и все поняли, что женится он на Насте, с которой был у чего долгий и, по его словам, жестокий роман. Ребята знали эту Настю из ламповой, девку могучую и злую в работе, ее и начальство побаивалось.
— Ну, возьмет теперь тебя Настя в свои руки! — сочувственно сказал Виктор. — Возьмет!
— Возьмет, — печально согласился Сережка.
— Да зачем тебе жениться-то так рано? Она, что ли, требует?
— Она, — вздохнул Сережка и поник кудрявой головой. А все вокруг невольно засмеялись.
По сему случаю был устроен мальчишник. Ребята выложили на стол все, что осталось у них от пайка, и пир вышел хоть небогатый, а дружный. Сережка сначала горестно плакался на свою судьбу, а потом вдруг заважничал и под конец даже сказал товарищам:
— Печально мне глядеть, ребята, на вашу одинокую жизнь! — обвел взглядом железные солдатские койки и прибавил: — Уюта нет…
Все так и грохнули: это Сережка-то, пастушонок, затосковал об уюте! Но он нисколько не смутился, а стал еще более важным и сказал:
— Значит, так, ребята: как обставимся мы с моей Настей в нашем домике, так милости просим в гости, без всякого!
Утром в воскресенье Настя сама пришла за ним в общежитие и, не обращая никакого внимания на насмешливые взгляды ребят, увела Сережку навсегда к себе. Ушли они в обнимку, причем сундучок Сережкин несла Настя. Ребята даже удивились: до чего ж она нежна и тиха с Сережкой…
— А может, у них, ребята, и в самом деле большая любовь? — задумчиво произнес Мальченко и почему-то вздохнул.
Затем вскоре женился Осадчий и тоже ушел из общежития. Женился он на молоденькой и хорошенькой фельдшерице с соседней шахты и сам перевелся туда: у жены был маленький домик, доставшийся ей от покойного отца — маркшейдера.
Грустно было ребятам расставаться с Володькой Осадчим — его все любили. Но дядя Онисим в утешение сказал:
— Ничего, ничего, хлопцы! Женитьба, я так считаю, это есть наилучшее закрепление кадров. Чи не так? Як бы моя воля, так я б всех вас тут на донбассках переженил, чтоб не бегали…
— А если кто женится да донбассовку с собой увезет? — лукаво спросил Светличный.
— А за это расстрел! Расстрел на месте! — свирепо ответил дядя Онисим.
Уехал с шахты Глеб Васильчиков, парень из Харькова. Его отпустили по состоянию здоровья, — так смущенно объяснил он ребятам. Те ни единого слова не сказали в ответ, только молча, насмешливо следили, как, мелко суетясь, укладывает Васильчиков свои вещи в чемодан и торопится, чтоб поскорей кончить тяжелую сцену.
Провожать его никто не пошел.
А однажды вечером объявил о своем отъезде и Светличный. Он пришел в общежитие необычно возбужденный, праздничный и весело закричал чуть ли не с порога:
— Ну, ребята! Придется вам нового комсорга себе выбирать. Еду учиться! — И он потряс путевкой над головой.
Вероятно, ожидал он шумных поздравлений, дружеских пожеланий, расспросов, всего, чего угодно, только не того, что произошло: ребята молчали. Вся комсомольская лава была тут, в большой, сумеречной, похожей на воинскую казарму, комнате. И эта лава молчала. Светличный удивленно посмотрел на ребят, потом нахмурился.
Разгорелся спор. Виктор доказывал, что отъезд Светличного — пусть хоть на учебу! — есть замаскированная форма бегства с шахты.
— Сейчас главное — уголь! Свое образование можно получить и потом! — горячился он, невольно вспоминая свою клятву на косогоре. И все были на стороне Виктора и уже отчужденно, почти враждебно смотрели на своего бывшего комсорга.
А тот и не оправдывался.
— Правильно! — насмешливо сказал он, когда Виктор выкричался. — В аккурат то же самое и Казимир Савельевич думает, наш малоуважаемый полукрасный спец…
— А при чем тут Казимир Савельевич? — опешил Виктор.
— А при том, что он тоже так рассуждает: вы, мол, шахтеры, черная кость, уголь рубайте, а я, старый инженер, белая косточка, буду вами руководить, и свою политику на шахте делать, какую захочу. И вы мне еще долго в ножки будете кланяться, поскольку вы техники дела не знаете.
— А мы можем и без Казимира Савельевича уголь рубать! — возбужденно выкрикнул Виктор.
— Можешь? — прищурился Светличный.
— Можем!
— И горными работами руководить можешь?
Виктор промолчал.
— И геологию знаешь? И теорию проветривания? — Светличный подождал ответа, потом презрительно махнул рукой. — Эх, ты! Рубака! Нет, довольно! Пора уж действительно нам свою собственную интеллигенцию иметь.
— А-а! — злорадно закричал Виктор, будто этих слов только и ждал. — В интеллигенцию лезешь?
— Лезу! — спокойно ответил Светличный. — Изо всех сил лезу! И вас заставлю карабкаться, черти вы окаянные! Вы как понимаете слова товарища Сталина, что большевики должны овладеть техникой и стать специалистами? А? Или вас эти слова не касаются?
— А уголь? Кто ж уголь будет рубать? — непримиримо крикнул Мальченко.
Это был страстный, молодой, даже мальчишеский спор, и уже не о Федьке Светличном, не о его судьбе, а о судьбе всего нашего поколения. И спор этот уже был решен жизнью: правда была на стороне Светличного, и он это знал.
На прощанье он все-таки обнял Виктора, притянул его лохматую голову к своей и шепнул на ухо:
— Люблю я тебя, чертушка! И жду на рабфаке.
А через год, осенью 1932 года, уехали на учебу непримиримый Мальченко и с ним еще трое парней с «Крутой Марии». Андрей и Виктор провожали их. А когда поезд канул в ночную тьму, долго задумчиво смотрели вслед.