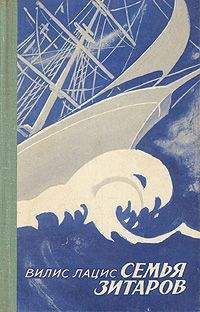— Не убегайте же, господин Пурвмикель! — воскликнула Милия, но Пурвмикель уже сосредоточенно нюхал цветы и из скромности сделал вид, что не слышит слов Милии. — Пожалуйста, говорите!
Она опять обратилась к Волдису на «вы».
— Только… пожалуйста, не волнуйтесь, — то, о чем я вам хочу сообщить, довольно трагично! — намеренно будоражил Волдис Милию.
Он не ошибся: если Милии что-нибудь запрещали — она этого хотела, если ей что-нибудь расхваливали — она на это не смотрела. Она походила на козу: если ее выпустить на поросший густой травой луг, она не притронется к сочной траве, а будет тянуться через изгородь или канаву к недоступным ей лопухам. Если перед ней положить охапку сена, — она не будет его есть, но если эту же охапку положить на крышу или подвесить куда-нибудь, — она целый день станет прыгать и тянуться к запретному лакомству.
Милия прижала руки к груди, она не могла дождаться продолжения.
— Карл… — начал Волдис и тяжело вздохнул, опустив голову.
— Что с Карлом? Что он сделал? — Милия краснела и бледнела, охваченная смутным предчувствием.
— Карл… сегодня… — Он опять смолк, как бы подыскивая слова.
Милия, широко раскрыв глаза, схватила Волдиса за руки. И чувство, изменившее теперь ее красивое лицо, было только безграничным, безудержным любопытством.
— Он… покончил с собой? — тихо проговорила она тоном, заимствованным у героинь сердцещипательных мелодрам.
Какое тщеславие у этой женщины! По-кон-чил с собой! Ради нее! Она мечтала о такой рекламе для себя.
— Нет, Карл не настолько глуп, чтобы из-за таких пустяков решаться на самоубийство! — хладнокровно ответил Волдис.
Милия покраснела, как маков цвет. О, она готова была убежать, спрятаться. Какое разочарование! Она готова была расплакаться от злости и стыда.
— Так что же с ним случилось? Говорите скорее!
Она бы топнула ногой, если бы Пурвмикель не смотрел в ее сторону: пока она должна сдерживаться, характер можно будет проявить лишь после свадьбы.
— Карл сломал ногу.
Лицо Милии разочарованно вытянулось, но она быстро овладела собой.
— Какой ужас! Как это страшно! Расскажите, как это произошло. Ах, я даже не могу себе представить!..
— Он лежит в хирургическом бараке, койка двадцать три. Прием посетителей с двух до четырех.
— Он теперь будет хромым?
— Возможно. А теперь извините — мне некогда.
— И вы не расскажете, как это произошло?
— Это только расстроит вас. Разрешите пощадить ваши нервы. Будьте здоровы!
Поэт отнял нос от яблоневой ветки и поклонился. Милия стояла, широко открыв глаза, и теребила обшлаг блузки…
Волдиса уволили. На следующий день он пошел в порт, взяв свой инструмент — багор, и стал бродить в поисках работы. Подступиться к чужим форманам было трудно, у них были свои люди; а из нового профсоюза на каждый пароход посылали по мере надобности штрейкбрехеров. Судов полная гавань, и все же не всем хватало работы.
Волдис вспомнил политику кабаков, совместной выпивки. Да, это помогло бы, но он больше не желал идти этим путем.
Капля за каплей собиралась в душе горечь. Мелкие, крошечные уколы, пустячные занозы чувствовались ежедневно, к ним он притерпелся, забывая о них. Но теперь, после того как искалечило Карла, Волдис почувствовал, что эта горечь превращается в сознательную ненависть. Вот чего и он может достичь своей работой: годами мытариться в порту, спаивать форманов, переносить брань, пока, наконец, на него не свалится бревно или бунт. Тогда он больше не будет нужен, ведь на свете столько здоровых людей!
Нет, он не пожертвует им больше ни капли, не сядет с ними за один стол. Если право на существование приходится приобретать таким путем, тогда оно не нужно. Если человек не может быть человеком, плевательницей становиться не стоит.
Через несколько дней он получил работу в портовом кооперативе. Здесь существовали те же порядки, что в конторах стивидоров, только от заработка приходилось отчислять еще пятнадцать процентов в пользу кооператива. Кто состоял в этом кооперативе? Горсточка рабочих, в прошлом штрейкбрехеров. Из этих пятнадцати процентов составлялась вполне порядочная сумма, распределявшаяся по окончании года исключительно среди пайщиков кооператива. Так рабочие эксплуатировали рабочих. Пример эксплуатации заразителен.
В воскресенье Волдис пошел в больницу навестить Карла.
— Зачем ты принес эту ерунду? — ворчал тот, увидев принесенные Волдисом апельсины и сладости. — Лучше бы притащил какую-нибудь книгу. Подыхаю от скуки.
— Тебя никто не навещал?
— Меня? Кто же ко мне придет, кроме тебя?
— Да, да… Я позабочусь о книгах. Что бы ты хотел почитать: роман или что-нибудь научное?
— Безразлично, что, только хорошее, интересное.
— Ладно, попытаюсь, может быть, даже завтра.
— Если только тебя пустят в больницу.
— Как-нибудь изловчусь. Ну, как нога? Операция прошла успешно?
— Кто его знает. Кость переломлена, оказывается, не в одном месте, а в двух, — сгоряча не разобрались. Сделали операцию. Теперь должно заживать.
— Что они говорят, хромать не будешь?
— Возможно, что не буду. Но я здесь видел людей, которым говорили то же самое, а в конце концов, их выписывали с несгибающейся ногой. Эх, чего там! Мне все равно, я приготовился к самому худшему.
— Ну, ну, опять разволновался.
— Я вовсе не волнуюсь. Все обдумано, все предусмотрено. Согласись, что только полноценному, здоровому человеку стоит жить. Какой смысл жить безногому, слепому, глухому, больному туберкулезом?
— Даже калеке имеет смысл жить.
— А что особенного представляет собой смерть? Только известное событие в неизвестном будущем.
— Довольно об этом. Эти глупости мы выбьем у тебя из головы. Кроме того, если ты что-нибудь сделаешь с собой, кое-кто истолкует это по-своему.
— Несчастная любовь? Ну нет, только не это!
— Многие так поймут. В том числе и она. Ты же не захочешь удостоить эту женщину такой большой чести?
— Конечно, нет.
Они рассмеялись и заговорили о другом. Время, отведенное для приема посетителей, незаметно подходило к концу. Завязалась оживленная беседа, и никто бы не сказал, что Карл своими остротами только пытался заглушить затаенную в глубине сердца тоску.
— Как ты переносишь запах лекарств? — спросил Волдис.
— Сначала тошнило. Всякие карболки, тинктуры, пластыри… Если бы ты знал, как скверно быть таким беспомощным ребенком. Молодые женщины обходятся со мной, как с бесполым существом. Стыдно даже подумать.
— Время истекло! — прервала медицинская сестра больничную идиллию. Раздались звуки поцелуев, кое-где на тумбочках увядали принесенные цветы,
— Тебе, конечно, понадобятся деньги, — сказал Волдис. — На, возьми несколько латов.
— Спасибо. Иногда сюда приносят газеты и фрукты. Когда ты опять придешь?
— Посмотрим, как выйдет. Если не удастся раньше кончить работу на пароходе, приду в следующее воскресенье. А книги постараюсь доставить завтра вечером. Никому не надо передать привет?
Карл горько усмехнулся.
Волдис вышел из палаты. По больничному саду гуляли выздоравливающие. Кое-где между кустов маячили серые фигуры — с забинтованными головами, с висящими на перевязи руками, бледные и хилые. Женщины и мужчины. Страдание… страдание… Все бараки полны страдании. Каждую ночь кого-нибудь уносят в часовню: смерть была здесь частой гостьей.
Впереди Волдиса шла женщина — серый поношенный халат, белые больничные чулки, левая рука висела на перевязи. Она дошла до того места, дальше которого не разрешалось ходить больным, и повернула обратно. Волдис хотел пройти мимо и посторонился, боясь задеть больную руку женщины.
Женщина остановилась и посмотрела на Волдиса. Он взглянул на нее и покраснел — то ли от смущения, то ли от радости.
— Лаума! Ты! — горячо воскликнул он. — Сколько времени мы не виделись!
— Я уж думала, ты не захочешь меня узнать, — улыбнулась Лаума.
— А ведь я решил, что ты уехала из Риги. Ты давно в больнице?
— Недели три. А ты давно в Риге?
— Недели две. Что с тобой?
— Эх, не хочется и говорить о таких вещах. Скучная история.
— Тебе поранило руку?
— Немного. На работе занозила локоть. Стало нарывать, наверное началось заражение крови. Рука распухла, побагровела. Больше недели я ходила в амбулаторию, потом вдруг под мышкой воспалилась железа, сильно распухла. Дергало так, что ночью не могла спать… Но к чему я тебе рассказываю о таких мелочах. Не сердись за мою глупую болтовню.
— Лаума, будь такой же, как прежде. Мы относились друг к другу гораздо проще.
Девушка опустила глаза.
— Рассказывай дальше. Тебе сделали операцию?