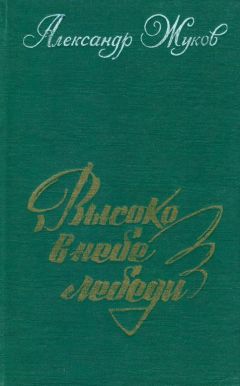Лена выбежала на улицу. Была середина сентября — ни холодно, ни жарко. Куда пойти?.. Едва к остановке подкатил автобус, Лена впрыгнула в него и доехала до вокзала. Она и раньше бывала тут не раз. В расписании значились только два проходящих поезда до Москвы, а остальные — местные. Раньше Лену больше привлекала «Карта железнодорожных путей СССР», висевшая поблизости от двери с табличкой «Начальник вокзала». Глядя на карту, она гадала: куда же судьба забросила ее брата? Может, в Джезказган, в Стерлитамак или Баку, а может, и на север, в Хабаровск или Читу?.. И вот оказалось, что живет он почти под боком, в Калуге.
Лена просмотрела расписание — прямые поезда на Калугу не шли. В справочном ей посоветовали ехать до Москвы, а оттуда — электричкой до Калуги. Можно было ехать и автобусом с пересадкой в Туле. Лене хотелось с кем-нибудь посоветоваться. Но с кем? В справочном сидела девица с глубоким декольте, с тонко подбритыми бровями; с ней, наверное, можно было поболтать о моде на прически, платья, кофточки. Тут бы она оказалась незаменимым собеседником. Да и вовсе не разговор был нужен Лене, а понимание и одобрение всего, что она делала и чем жила до сих пор, пусть молчаливое, но искреннее; вздохи, сожаления ее и раньше только раздражали, она мгновенно замыкалась и становилась дерзкой, отчего сама потом страдала и плакала, но не могла себя сдержать, когда какая-нибудь расфуфыренная дамочка из роно или райкомовской комиссии приезжала к ним в детский дом и, впервые увидев их, сотни две, на первый взгляд почти одинаковых, обездоленных, начинала перед ними лебезить, заискивать; раздавая подарки или вручая грамоту за хорошую учебу, примерное поведение, прилежание к труду, она вспоминала своих детей, ухоженных и, наверное, избалованных, невольно сравнивала их судьбы и краснела от стыда за свое благополучие и за нелепые куклы и конфеты, которые привезла в картонных ящиках и от которых жизнь детдомовцев не становилась слаще. У таких гостей Лена почти выхватывала из рук подарки и, несмотря на угрожающие движения черных бровей директорши, бегом кидалась на свое место, а потом в коридоре вместе с подружками, плача, сосала конфеты, поскольку хотелось сладкого, и оставшиеся прятала под подушку, чтобы еще дня на два продлить это мучительное удовольствие. Лена спокойнее относилась к шефам с обойной фабрики. Заводские не суетились, не устраивали церемоний вручения, они выкладывали подарки на стол и так же незатейливо, как тетя Маша, грубовато приглашали: «Налетай, подешевело!» Не церемонясь, они одергивали тех, кто хотел прихватить два кулька, подталкивали вперед стеснительных. На прощанье шефы с обойной фабрики говорили: «Выучитесь, приходите к нам пополнять рабочий класс!» Потом в большинстве школьных сочинений появлялось: «Выучусь, пойду пополнять рабочий класс».
После восьмого класса Лена, хотя троек у нее не было, подала заявление в ПТУ и очень гордилась этим. Новая жизнь и пугала и манила. Директорша целый час, наверное, держала ее в своем кабинете, напутствовала, советовала; чтобы не забыть чего или сделать не так, Лена часть ее советов записала в школьную тетрадь. Но уже тогда она понимала, что доброе, самое сердечное отношение не заменит того, что называют родным. Она много раз и на разные лады повторяла: родные, родственники, родители, — но эти слова были для нее совершенно чужими, словно из другого языка, поскольку для нее, Лены, ничего не значили, но все же они притягивали, как таинственный магнит.
Когда училась в ПТУ, Лена в первую же осень, едва получила стипендию, отправилась в деревню Калачово, где родилась. Добиралась туда долго, сначала поездом, потом автобусом и на попутке. Шофер, скуластый парень, месяц назад вернувшийся из армии, был родом из Калачово, но про семью Лены ничего не слышал. Он остановил машину возле крохотного домика, двумя окнами наперед. «Если бабка Захариха ничего не знает, — сказал он на прощание, — то никто тебе ничего не скажет. Тут из старожилов человек пять осталось. Остальные все пришлые». И предупредил, что через два часа назад поедет, повезет картошку на сдаточный пункт, и при желании может подбросить до райцентра.
Бабка Захариха с полминуты, наверное, не мигая, смотрела на Лену, потом махнула рукой:
— Заходь в дом!
— Я вам еще не сказала…
— Да признала я тебя, признала, лупоглазую. — Захариха, охнув, покрепче ухватилась темной сухой рукой за перильца и почти на коленях заползла на крыльцо; распрямилась. — Все вы, Гущины, испокон веков такие, коротенькие да лупоглазые. А ты, значит, в городе живешь. Государство, значит, тебя вырастило.
— Сейчас в училище поступила. — Лена не знала, как себя вести, что говорить. В доме Захарихи, кроме стола и двух табуреток, никакой мебели не было; от насквозь прокоптившихся за долгие годы неоклеенных стен, щелястого скрипучего пола веяло чем-то древним, стародавним.
— Ты вот что, Гущиха, садись к свету, чтобы я тебя видела, да рассказывай, пошто приехала?
— Посмотреть, где родилась, — еще больше смутилась Лена.
— А братец почему не заглядывает? Он же первенцем был. На годок тебя постарше, — что-то припоминая, Захариха пожевала губами, — он где?
— Не знаю. А он тут не был?
— Ни разу не видала. Был бы живой, приехал бы!
— Да как вы так можете?! — порывисто вскочила Лена и тут же расплакалась.
— Поплачь, дочка, поплачь. Моя изба давно слез не видела. Меня за бабу не признает. То вон половицу провалит, то бревна в стене раздвинет так, что кулак просунешь. За мужика, видать, почитает. На ремонт намекает. А я в плотницких делах ни бельмеса не соображаю. Да и сил нету. Я вон на крыльцо, сама видела, на бороде влезаю.
— Зачем же вы так, зачем?
— Да не тебя, его стыжу. Человек должон на родине побывать. Должон знать, где у него пупок завязался. Ты вытри глаза-то, успокойсь. Я тебя на кладбище свожу. Покажу могилки твоих родителев. Там и поплачешь. Там положено плакать.
Кряхтя и охая, Захариха спустилась с крыльца и, согнувшись, словно что-то искала в спутанной, выгоревшей за лето траве, мелко засеменила по тропинке. Лена пошла за ней.
— Ничего не дрогнуло, дочка? — Захариха неожиданно остановилась, и Лена чуть не наскочила на нее. — Сердечко не дрогнуло? — пытливо посмотрела на нее Захариха.
— Не понимаю, о чем вы?
— Да ведь против дома стоим, где ты на свет появилась. Дарья Кукушкина, царство ей небесное, роды-то примала.
«Неужели тут?.. мой?» Лена посмотрела на дом с голубыми наличниками, еще крепкий, обшитый тесом, покрытый дранкой, потемневшей от дождей.
— Тут теперичи Бобрук живет, — пояснила Захариха, — с Украины приехал. Колхоз ему дом перетряхнул, тесом одел. Его ведь твоя тетка задарма Притулиным отдала, потом его Струковы взяли… Так и ходил по рукам. Одним словом, ничейный — ничейный и есть.
Лена глядела на дом, но в памяти ничего не осталось такого, что было бы связано с ним. «Брат на год старше. Может, он помнит. Рассказал бы мне. Может, и я что-то бы вспомнила. Да и тетка… оказывается, у меня еще тетка есть!» — обрадовалась она: есть у нее на свете еще один родной человек. Угадав ее мысли, Захариха подсказала:
— Тетка не родная тебе, двоюродная. А ты, я гляжу, по деревне как слепая идешь, ничего не признаешь. Да и где тебе помнить, ты же тогда с наперсток была. Мать, бывало, в люльку тебя положит, она была на пружине к потолку привешена. Это уж твой родитель постарался. Большой придумщик был. Тебя раз качнут, ты и качаешься, качаешься. Глазки-то на потолок таращишь. А там твой родитель цветную картинку прилепил, прямо как в церкви: голубое такое небо и по нему летят белые лебеди. Ты все ручонки к ним тянула.
— Вот оно откуда! — тихонько засмеялась Лена. — Они мне все снились и снились. Я уж измучилась, гадая, где их видеть могла? — И уже теплее поглядела на дом. Ей захотелось войти в него, посмотреть на потолок; может, в нем маленькая дырочка осталась от гвоздя, к которому люльку подвешивали.
— Пошли, дочка, пошли, — дернула за руку Захариха, — там чужие люди живут. У них своих забот полон рот. Да и чего им лишний раз напоминать, что у дома есть другие хозяева, а они вроде как одежду с чужого плеча сдернули. Пусть приживаются. Может, сроднятся с этим местом. Чего им зазря по белу свету мыкаться.
— Вы мне про маму расскажите.
— Вот придем к ней, тогда и расскажу.
Возле кладбища Захариха остановилась, что-то пошептала себе под нос, перекрестилась и повела Лену по узкой тропинке между могилами. Кладбище было невелико, и, не будь разросшихся ив, его можно было бы окинуть взглядом, даже не привставая на носки. В левой части возвышалась полуразрушенная церковка с покосившимися, почерневшими куполами. И все же запущенность была кажущейся, большинство могил обихожено, очищено от травы, кресты покрашены.
— Вот она, — Захариха кивнула на земляной холмик с невысоким железным крестом. Он не был так ухожен, как другие, но чувствовалось, что весной его кто-то подровнял.