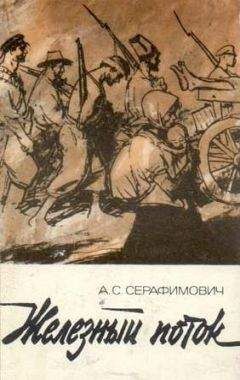Какое начало! Какое мучительное, трудное начало! Среди непроглядной рабочей безграмотной забитой тьмы начинал молодой Моисеенко. Начинал среди дикого, нечеловеческого царского и хозяйственного произвола. Темные замученные рабочие говорили безнадежно:
– Разве можно у Морозова стачку устроить! Он колдун – не допустит.
Раскачать эту непроглядную тьму стоило неимоверных усилий. Ведь собираться-то рабочие могли только в грязных, вонючих фабричных нужниках, тайком, оглядываясь. И там молодой Моисеенко растолковывал им самые простые, азбучные истины: что они должны добиваться возможности жить не собачьей, звериной, а мало-мальски человечьей жизнью. И с нечеловеческими усилиями надо было не дать организованной стачке превратиться в стихийный бунт разрушения.
Вот как начинал молодой Моисеенко.
И я опять смотрю на эти тридцать, на это продолжение. Но какая разительная противоположность обстановки начала и продолжения!
Там – темная, безграмотная, забитая звериной жизнью масса; здесь – дисциплинированные, внутренне страшно выросшие стройные ряды пролетариата, выковавшего величайшую в мире революцию.
Там место агитации – вонючий нужник: здесь – лучшие залы, лучшие помещения городов, фабрик, заводов.
Там – безумные, нечеловеческие преследования царских и хозяйских палачей; здесь – в подспорье революционным строителям мощь рабочей революционной власти.
Я смотрел на серебряную голову зачинателя и на молодые в расцвете сил лица продолжателей. И тот и другие вышли из самой утробы, из самого нутра пролетариата. И тот особенный практицизм, особая сноровка ухватить самую сущность дела, самое нутро его, – сноровка, так свойственная рабочему, – лежит нестираемой печатью на серебряной голове и на лицах революционных продолжателей.
И на каждом лице отпечаток прошлого, партийной работы, царского подполья, безумного напряжения фронта гражданской войны и неохватимого, ни на минуту не ослабевающего напряжения мирного строительства.
Да! обстановка изменилась: нет того элементарного, страшного, что было, когда начинал борьбу этот с серебряной головой молодой старик, но зато как огромно, необъятно все осложнилось теперь! Период разрушения кончился, наступил невиданный в человеческой истории период строительства. И вся тяжесть, вся ответственность его падает на хозяйственников, на производственников, на тех, кто непосредственно регулируют живую силу фабрик.
Страшная ответственность, ибо каждая ошибка, промах бьют не по отдельному производству, а по всей социалистической республике, а стало быть, и по всему будущему нашей страны.
И я вижу по лицам рвущихся изо всех сил людей: среди развалин, среди хаоса, среди вопиющей недостачи во всем эти тридцать час за часом, день за днем, месяц за месяцем восстанавливают производство.
Председатель правления текстилей с затаенной гордостью подает альбом всевозможных тканей. Я с изумлением разглядываю – да неужели это теперешнего производства? Сколько изящества, какая отличная выделка!
А давно ли сами рабочие, когда им в счет заработной платы давали продукт их же труда, отказывались брать:
– На кой она нам черт, эта рогожа!..
Один из товарищей текстилей подсаживается ко мне и говорит:
– Помните, вы писали про рубаху. Верно писали. Да, да, надо было подтянуться.
Я уже забыл, четыре года прошло, а он помнит. Он помнит каждую мелочь, каждый маленький факт, потому что это относится к производству, в котором вся его душа. В восемнадцатом году я был на фронте и видел: присылают для красноармейцев партию рубах. Красноармеец радостно надевает, а она тут же расползается. Я уже позабыл об этом, а товарищ текстиль помнит: оно сидит в нем, как заноза, он и за прошлое болеет душой.
– Надо было подтянуться, подтянуться надо было, – твердит он. – Разве это допустимо? – подумайте сами.
Да, эти текстили впились, как клещи, в свое дело, уж не вырвешь, – мертвая хватка.
И я опять гляжу на длинный стол – серебряная голова освещает тридцать революционных строителей – и думаю: да не сон ли это? И не снилось ли когда-то мне это тридцать пять лет тому назад в далекой холодной Мезени?
Иваново-Вознесенск прост, крепок, широко раскинулся. Хрустит мороз. Под наваленным снегом, через широкие, как поле, улицы сереют деревянные домишки. И между ними нет-нет да и вывернется двух- или трехэтажный матерый каменный дом – фабрикант когда-то жил.
И во внутренней жизни этот не то город, не то деревня – тихий и безлюдный; крепок, прост по-рабочему, может быть, потому что рабочая жизнь дает ему свою окраску, содержание.
Впрочем, многое помечено кровавым воспоминанием. Вот около моста солдаты, стоявшие шеренгой вдоль этого забора, расстреливали безоружных рабочих. А вот там казаки засекали рабочих плетьми, а на концах вшиты свинцовые гири, – ударит по голове, глаз выскочит…
А теперь…
А теперь в каждом предприятии свой клуб, свои учреждения, какие в те времена и не снились, своя жизнь. И эта трудовая, крепкая, кряжистая жизнь пропитала собой все учреждения и все организации.
Губком – сердце и мозг. Секретарь – маленький и живой, исхудалый, желтый, – и в торопливо улыбающихся глазах кипучая несокрушимость. Человеку явно надо отдохнуть, иначе… Но тысячи дел, тысячи вопросов, тысячи затруднений, требований, противоречий.
Быть может, нигде так не требовательны, не строги к партийному, как здесь. Рабочий, беспартийный массовик, угрюмый, сосредоточенный, изжелта-бледный, – жиров-то не хватает в полную меру, – идет в фабричную ячейку не только с общеполитическими и хозяйственными вопросами (на Рур наступают французы, не будет ли из-за этого войны? Не станет ли фабрика из-за недостатка хлопка? и т. п.), но и со всем житейским, что наполняет его жизнь: в семье нелады – к секретарю; не знает, что с сыном делать, от рук отбился – к секретарю; сказывают, всех богов по шапке – к секретарю; будет ли урожай, не подешевеет ли хлеб – к секретарю.
И коммунист не имеет права отцыкнуться, не знать, запнуться. Мало того, что он должен в своей собственной жизни быть чист, честен, что на него всегда можно положиться, он должен еще на все ответить, как книга, из которой все можно вычитать. Иначе машут руками: «Какой это коммунист, только что приписался к партии».
Вот почему в глазах секретарей ячеек такая напряженность, точно там внутри постоянно разворачивается туго свернутая пружина; вот почему коммунисты как-то подобраны, гибко напряжены, всегда начеку.
Вхожу на завод. Дымно, полутемно. Краны, станки, вагранка; дневной свет тускло пробивается сквозь закопченные окна, и красновато освещают и днем не потухающие электрические лампочки. Стук молотов, звякают зубила, хрипят напильники. Рабочие, пропитанные дымом, копотью, углем, въевшимися опилками, сосредоточенно угрюмы. А рядом за верстаками, за токарными станками молодые, живые и бойкие глаза подростков, учеников фабрично-заводской школы. Тут и мальчики-модельщики, и слесари, и мальчики-литейщики, и токари. Мне показывают их работу, – прекрасно работают, как взрослые: выполняют заказы фабрик, заводов, мастерских, в значительной степени окупают свое учение.
Просматриваю теоретическую программу, – тут и математика, и обществоведение, и естествоведение, и русский. До двенадцати – в классе, по теории, после двенадцати – на заводе практика, занимаются взасос. Да, на смену старикам идет свежий строй молодежи, строй квалифицированного рабочего, да не прежнего, обучившегося только около молотка, а с ясными глазами отдающего себе отчет в окружающем мире. Но ведь нужны не только рабочие у станка завода, нужны рабочие и у станка управления: в профсоюзах, в партийных и советских учреждениях. И я еду в совпартшколу.
Прекрасное здание, скудно меблированное.
Курсанты – курс первой ступени шесть месяцев – второй год рвутся к работе, так рвутся, что часто заболевают: малокровие, нервные болезни. Я смотрю на эти милые молодые лица юношей и девочек – умственный труд уже положил на них свою чудесную, печать. С милой улыбкой они говорят: «Эх, если бы сорок восемь часов в сутки!»
Есть и бородатые, неуклюжие.
Крепкая ячейка в шестьдесят человек; пятнадцать кандидатов. Комсомольцев – сто одиннадцать человек.
Эта учащаяся молодежь и учащиеся старики не только умеют рваться к учебной работе, отдавая весь запас сил, все здоровье, – они умеют и разумно развлекаться. В конце зала – сцена, устроенная курсантами; их драматический кружок играет. Большой хор строен и выдержан, и чистые голоса девушек звучат молодо и свежо. Стройный оркестр мандолинистов. А большой спортивный кружок под руководством курсанта же борется с физическим ослаблением. Как красивы, стройны и мощны эти коллективные движения, заполнившие весь зал!..