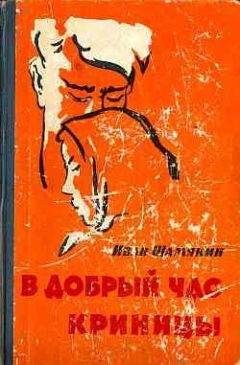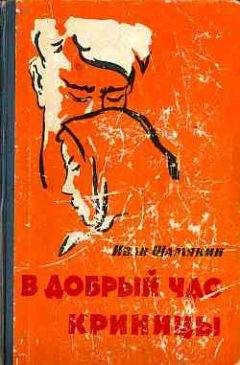— Вы нас не отговаривайте, Михаил Кириллович… Мы недостойны были бы звания советских педагогов, если б промолчали! — Последние слова Павел Павлович произнес, повернувшись к жене.
Лемяшевич пожал плечами. Его радовала такая сплоченность коллектива, хотя и смущали высказанные по его адресу похвалы.
— Пишите дальше, Ольга Калиновна, — решительным тоном сказал Орешкин, когда Лемяшевич прошел в директорский кабинет — маленькую комнату рядом с учительской, — На чем мы остановились? — Орешкин ходил по учительской, засунув руку под пиджак и поглаживая сердце. — Пишите: «…Таким образом, мы рассматриваем этот фельетон как клевету на честного советского человека, организатора и руководителя…»
— Коммуниста, — подсказал Ковальчук.
— Правильно, — согласился Орешкин. — Вставьте, Ольга Калиновна: «Советского человека, коммуниста». Дальше… «Наше возмущение разделяют колхозники передового в районе колхоза «Вольный труд», которые за короткий срок полюбили товарища…»
— «Полюбили» — не то слово, — остановила Марина Оста-повна.
В составлении письма не участвовал один Адам Бутила; он сидел на диване, непривычно молчаливый, и с таким презрением смотрел исподлобья на Орешкина, что Лемяшевич, сквозь приоткрытую дверь заметив этот взгляд, испугался, как бы дело не окончилось скандалом. Его мрачный вид угнетал преподавателей, которые никак не могли понять, что произошло с весельчаком и шутником Бушилой.
Орешкин поглядывал на него с некоторым испугом, вид Бушилы его нервировал.
Лемяшевич вышел из кабинета, пригладил волосы.
— Вы меня извините, товарищи, но не нравится мне то, что вы пишете. Если говорить о клевете, так оклеветан не один Лемяшевич. А председатель сельсовета? Секретарь парторганизации?
— Правильно, — поддержал Бушила.
Орешкин перестал поглаживать сердце и почесал затылок; глянул на часы — хватит ли времени переписать письмо заново? — и поморщился.
— Правильно… Конечно, правильно! А вы сидите и не можете подсказать, ведь пишем коллективно. Молчать — легче всего! — накинулась на Бушилу Ольга Калиновна, относившаяся к каждому делу горячо и добросовестно.
— Без меня есть кому писать, — кивнул Бушила на Орешкина. — Вот Виктор Павлович мастер.
— Почему это я мастер? — передернулся Орешкин.
Опасаясь, что неугомонный Бушила выскажет вслух подозрения, о которых говорил вчера Сергею, а сегодня за завтраком у Костянков всем, и ему в том числе, Михаил Кириллович поспешил перевести разговор на другое. Бушила понял его и, не сказав ни слова, вышел из учительской.
— Наш Адам встал не с той ноги, — пошутила Ольга Калиновна, сама, без подсказок, переделывая письмо. — Я думаю, вот так надо!.. — И она начала читать новую редакцию.
Теперь упоминались и Полоз и Ровнополец, но Лемяшевич покраснел от тех дифирамбов, которые расточались ему в этом письме, и запротестовал:
— Поймите, товарищи, что вы ставите в неловкое положение и себя и меня. Я — директор, вы — преподаватели…
— Михаил Кириллович прав, от письма пахнет подхалимством, — неожиданно поддержала его Марина Остаповна.
В этот момент вошел Данила Платонович, и все замолчали. Раздевшись, он обвел коллег проницательным взглядом, словно по глазам пытаясь отыскать виновного. Ольга Кали» новна протянула ему письмо:
— Прочитайте и скажите свое мнение, Данила Платонович.
— Кто это писал? — спросил он, пробежав письмо. — Коллективно.
— Коллективно — и так плохо? Длинно, путано и столь высоким стилем, будто вы оду слагаете.
Орешкин возразил:
— Мы выразили свои чувства…
— Ну, если вы их уже выразили, — Данила Платонович бросил взгляд на Лемяшевича, — так и мы, верно, имеем право сказать свое слово.
Он достал из старого, потертого портфеля листок бумаги и прочитал адресованное секретарю обкома (преподаватели писали в редакцию) письмо, где не было ни чрезмерных похвал Лемяшевичу и Полозу, ни громких слов, а был решительный протест против лжи и клеветы на честных людей. Подписали Шаблюк, Морозова, Груздович, Сергей Костянок, Волотович.
— И я! — подал голос с порога Адам Бушила.
— Разрешите и мне, — попросил Ковальчук.
— Товарищи, я думаю — мы все подпишем это письмо? А? — обратился к коллегам Орешкин. — Данила Платонович мудро выразил нашу общую мысль.
Лемяшевич посмотрел на часы.
— Пора звонить, Дарья Прокоповна, — бросил он и пошел к себе в кабинет, полный противоречивых чувств, с каким-то неприятным осадком в душе.
Радостно было, что товарищи так горячо поддержали его, и еще от того нового, что он неожиданно открыл во многих из учителей. Это давало право надеяться, что коллектив и в самом деле сплотится. Откуда же неприятный осадок? Он никак не мог понять.
В классе обсуждение этого события проходило куда более бурно, со спорами и взаимными попреками. Когда Павлик Воронец попробовал высказать мысль, что печатают-то ведь не просто так, а, должно быть, надлежащим образом проверяют, в него полетели комки бумаги, мел, мокрая тряпка.
— Дурак! Значит, по-твоему, и Данила Платонович вор?!
Павлик вынужден был немедленно отказаться от своих слов.
Володя Полоз громогласно философствовал на тему о подлости людей, пишущих анонимные письма, и о ничтожестве тех, кто поддерживает клеветников хотя бы мысленно.
— В нашем обществе клеветников надо присуждать к высшей мере… Что, нет? Клеветник — это тот же диверсант. И если, к примеру, они завелись в нашем колхозе, мы не имеем права спать спокойно!
— А ты думаешь, что это написал кто-нибудь из криничан? — спросил Левон Телуша с тайной мыслью выведать, кого подозревает Володин отец.
— Не сомневаюсь! Там есть такие детали, которые мог знать только наш человек.
— Но кто? О ком ты думаешь?
В это время в класс вошел Алёша Костянок, и на миг внимание всех было переключено на него. Так невольно умолкали при появлении каждого нового товарища; многие начинали высказываться прямо с порога. Но Алёша, поздоровавшись, молча прошел к своей парте. Любопытство ещё усилилось, когда вспомнили, что Костянок, верно, сегодня, как и всегда, завтракал вместе с директором.
— Так о ком же ты думаешь? Кто это мог сделать? — повторил свой вопрос Левон, когда Алёша сел рядом с ним.
Володя Полоз смешался.
— Кто? Да мало ли таких! Есть еще у нас.
— Кроме Орешки, никто этого не мог сделать, — спокойно сказал Алёша, совершенно неожиданно для всех, да и для самого себя. Уже когда сказал, спохватился, вспомнил, как Сергей и Михаил Кириллович строго наказывали Адаму, чтоб держал язык за зубами.
Алёша потом понять не мог, как у него, человека не болтливого, вдруг вырвались эти слова. Неужели потому, что он ненавидел Орешкина?
Класс на момент притих. Катя, стоявшая у доски, подошла к двери и плотнее прикрыла её, А Рая вдруг вскочила, дрожащим голосом крикнула:
— Сам ты клеветник несчастный! Какое ты имеешь право? Какое? Виктор Павлович возмущался больше… больше, чем все вы! Он письмо написал чтоб учителя подписали… Как вам не совестно!
Из глаз её брызнули слезы, и она бросилась к двери. Но дорогу ей загородила Катя, и вмиг возле них очутились Володя, Левой, Петро, Павел.
— Садись, Рая, на место и попридержи свои нервы! — решительно заявил Володя.
— Согласны, что Алёша сказал глупость, и забудем об этом. Забудем всё! — предложил мудрое решение Левон.
Зашумели девочки:
— Райка! Ты что хочешь делать?
— Ты же умная девушка, Рая, и понимаешь… — солидно, как отец или учитель, продолжал свою дипломатию Левой, — должна понять, что это только обидит Виктора Павловича, которого мы все уважаем…
Рая наконец поняла, что подумали одноклассники. Совершенно растерявшись, пристыженная, она вернулась на свою парту, уткнулась лицом в платок.
Левон подмигнул классу и поднял руки, требуя тишины.
— Алёша, сколько по твоему будильнику до начала урока? Три? Дети, попрошу сесть на места! Достаньте ваши учебники и подготовьтесь к занятиям… Школьные правила забыли, черти полосатые!.. Долго еще я вас учить буду! Так вот… На свете существует только физика — и больше ничего! И все подчиняется её законам!..
От Орешкина, когда он вошел в класс (первый урок был его), не укрылись взволнованность и заплаканные глаза Раисы, настороженность ребят. Потом, дома, он попробовал выпытать у нее, что произошло в классе утром перед уроками. Она не сказала, придумала какую-то наивную историю, спор из-за потерянной библиотечной книги. Орешкин, конечно, не поверил и попросил Аксинью Федосовну, чтоб она выведала, чем так взволнована дочь.
— Матери всегда надо знать, что у дочки на сердце, дорогая Аксинья Федосовна.
Раиса не скрыла от матери правду, и та, частью по деревенской своей простоте, а частью потому, что недолюбливала Костянков, передала всё Виктору Павловичу.