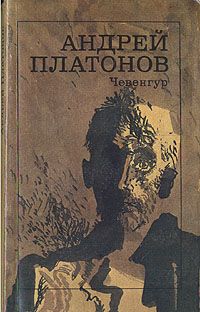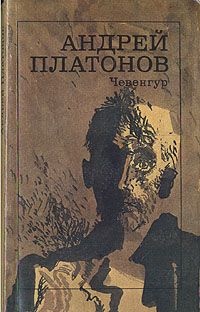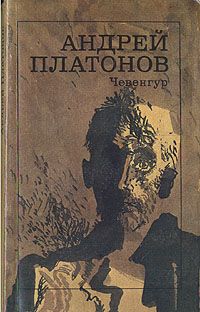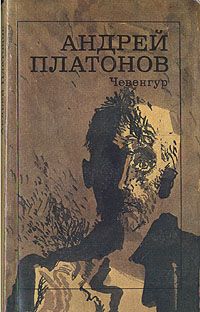Чепурный для сосредоточенности прикрыл глаза.
— Что-то ты верно говоришь, а что-то брешешь! Ты поласкай в алтаре Клавдюшу, а я дай предчувствием займусь — так ли оно или иначе!
Копенкин осадил увесистый шаг своего коня и заявил о своем намерении — с нетерпением и немедленно прощупать весь Чевенгур — нет ли в нем скрытого контрреволюционного очага.
— Очень вы тут мудры, — закончил Копенкин. — А в уме постоянно находится хитрость для угнетения тихого человека.
Молодого человека Копенкин сразу признал за хищника: черные непрозрачные глаза, на лице виден старый экономический ум, а среди лица имелся отверстый, ощущающий и постыдный нос, — у честных коммунистов нос лаптем и глаза от доверчивости серые и более родственные.
— А ты, малый, жулик! — открыл правду Копенкин. — Покажь документ!
— Пожалуйста, товарищ! — вполне доброжелательно согласился молодой человек.
Копенкин взял книжечки и бумажки. В них значилось: Прокофий Дванов, член партии с августа семнадцатого года.
— Сашу знаешь? — спросил Копенкин, временно прощая ему за фамилию друга угнетающее лицо.
— Знавал, когда мал был, — ответил молодой человек, улыбаясь от лишнего ума.
— Пускай тогда Чепурный даст мне чистый бланок — надобно сюда Сашу позвать. Тут нужно ум умом засекать, чтоб искры коммунизма посыпались…
— А у нас почти отменена, товарищ, — объяснил Чепурный. — Люди в куче живут и лично видятся — зачем им почта, скажи пожалуйста! Здесь, брат, пролетарии уже вплотную соединены!
Копенкин не очень жалел о почте, потому что получил в жизни два письма, а писал только однажды, когда узнал на империалистическом фронте, что жена его мертва и нужно было издали поплакать о ней с родными.
— А шагом никто в губернию не пойдет? — спросил Копенкин у Чепурного.
— Есть таковой ходок, — вспомнил Чепурный.
— Кто это, Чепурный? — оживела милая обоим чевенгурцам женщина — взаправду милая: Копенкин даже ощутил, что если б он парнем был, он такую обнял и держал бы долгое время неподвижно. Из этой женщины исходил меленный и прохладный душевный покой.
— А Мишка Луй! — напомнил Чепурный. — Он едкий на дорогу! Только пошлешь в губернию, а он в Москве очутится — либо в Харькове, и приходит тоже, когда время года кончится — либо цветы взойдут, либо снег ляжет…
— У меня он пойдет короче — я ему задание дам, — сказал Копенкин.
— Пускай идет, — разрешил Чепурный. — Для него дорога не труд — одно развитие жизни!
— Чепурный, — обратилась женщина. — Дай Лую муки на мену, он мне полушалок принесет.
— Дадим, Клавдия Парфеновна, непременно дадим, используем момент, — успокоил ее Прокофий.
Копенкин писал Дванову печатными буквами:
«Дорогой товарищ и друг Саша! Здесь коммунизм, и обратно, — нужно, чтоб ты скорей прибыл на место. Работает тут одно летнее солнце, а люди лишь только нелюбовно дружат; однако бабы полушалки вымогают, хотя они приятные, чем ясно вредят. Твой брат или семейная родня мне близко не симпатичен. Впрочем, живу как дубъект, думаю чего-то об одном себе, потому что меня далеко не уважают. Событий нету — говорят, это наука и история, но неизвестно. С революц. почтением Копенкин. Приезжай ради общей идейности».
— Чего-то мне все думается, чудится да представляется, — трудно моему сердцу! — мучительно высказывался Чепурный в темный воздух храма. — Не то у нас коммунизм исправен, не то нет! Либо мне к товарищу Ленину съездить, чтоб он мне лично всю правду сформулировал!
— Надо бы, товарищ Чепурный! — подтвердил Прокофий. — Товарищ Ленин тебе лозунг даст, ты его возьмешь и привезешь. А так немыслимо: думать в одну мою голову: авангард тоже устает! И, кроме того, преимуществ мне не полагается!
— А моего сердца ты не считаешь, скажи по правде? — обиделся Чепурный. Прокофий, видимо, ценил свою силу разума и не терял надежного спокойствия.
— Чувство же, товарищ Чепурный, — это массовая стихия, а мысль — организация. Сам товарищ Ленин говорил, что организация нам выше всего…
— Так я же мучаюсь, а ты соображаешь — чтό хуже?
— Товарищ Чепурный, я с тобой тоже в Москву поеду, — заявила женщина. — Я никогда центра не видала — там, люди говорят, удивительно что такое!
— Достукались! — вымолвил Копенкин. — Ты ее, Чепурный, прямо к Ленину веди: вот, мол, тебе, товарищ Ленин, доделанная до коммунизма баба! Сволочи вы!
— А что? — обострился Чепурный. — По-твоему, у нас не так?
— Ну да, не так!
— А как же, товарищ Копенкин? У меня уж чувства уморились.
— А я знаю? Мое дело — устранять враждебные силы. Когда все устраню — тогда оно само получится, что надо.
Прокофий курил и ни разу не перебил Копенкина, думая о приспособлении к революции этой неорганизованной вооруженной силы.
— Клавдия Парфеновна, пойдемте пройтиться и пошалить немного, — с четкой вежливостью предложил Прокофий женщине. — А то вы ослабнете!
Когда эта пара отошла к паперти, Копенкин указал на ушедших Чепурному.
— Буржуазия — имей в виду!
— Ну?
— Ей Богу!
— Куда ж теперь нам деваться-то? Либо их вычесть из Чевенгура?
— Да ты паники на шею не сажай! Спускай себе коммунизм из идеи в тело — вооруженной рукой! Дай вот Саша Дванов придет — он вам покажет!
— Должно быть, умный человек? — оробел Чепурный.
— У него, товарищ, кровь в голове думает, а у твоего Прокофия — кость, — гордо и раздельно объяснил Копенкин. — Понятно тебе хоть раз?.. Нá бланок — отправляй в ход товарища Луя.
Чепурный при напряжении мысли ничего не мог выдумать — вспоминал одни забвенные бесполезные события, не дающие никакого чувства истины. То его разуму были видны костелы в лесу, пройденные маршем в царскую войну, то сидела девочка-сиротка на канаве и ела купыри; но когда эта девочка, бесполезно хранимая в душе Чепурного, была встречена в жизни — теперь навеки неизвестно; и жива ли она в общем — тоже немыслимо сказать; быть может, та девочка была Клавдюшей — тогда она, действительно, отлично хороша и с ней грустно разлучаться.
— Чего глядишь, как болящий? — спросил Копенкин.
— Так, товарищ Копенкин, — с печальной усталостью произнес Чепурный. — Во мне вся жизнь облаками несется!
— А надо, чтоб она тучей шла, — оттого тебе, я вижу, и неможется, — сочувственно упрекнул Копенкин. — Пойдем отсюда на свежее место: здесь сырым богом каким-то воняет.
— Пойдем. Бери своего коня, — облегченно сказал Японец. — На открытом месте я буду сильней.
Выйдя наружу, Копенкин показал Японцу надпись на храме-ревкоме: «Придите ко мне все труждающиеся».
— Перемажь по-советски!
— Некому фразу выдумать, товарищ Копенкин.
— А Прокофию дай!
— Не так он углублен — не осилит; подлежащее знает, а сказуемое позабыл. Я твоего Дванова секретарем возьму, а Прокофий пускай свободно шалит… А скажи, пожалуйста, чем тебе та фраза не мила — целиком против капитализма говорит…
Копенкин жутко нахмурился.
— По-твоему, Бог тебе единолично все массы успокоит? Это буржуазный подход, товарищ Чепурный. Революционная масса сама может успокоиться, когда поднимется!
Чепурный глядел на Чевенгур, заключивший в себе его идею. Начинался тихий вечер, он походил на душевное сомнение Чепурного, на предчувствие, которое не способно истощиться мыслью и успокоиться. Чепурный не знал, что существует всеобщая истина и смысл жизни — он видел слишком много разнообразных людей, чтобы они могли следовать одному закону. Некогда Прокофий предложил Чепурному ввести в Чевенгуре науку и просвещение, но тот отклонил такие попытки без всякой надежды. «Что ты, — сказал он Прокофию, — иль не знаешь — какая наука? Она же всей буржуазии даст обратный поворот: любой капиталист станет ученым и будет порошком организмы солить, а ты считайся с ним! И потом наука только развивается, а чем кончится — неизвестно».
Чепурный на фронтах сильно болел и на память изучил медицину, поэтому после выздоровления он сразу выдержал экзамен на ротного фельдшера, но к докторам относился как к умственным эксплуататорам.
— Как ты думаешь? — спросил он у Копенкина. — Твой Дванов науку у нас не введет?
— Он мне про то не сказывал: его дело один коммунизм.
— А то я боюсь, — сознался Чепурный, стараясь думать, но к месту вспомнил Прошку, который в точном смысле изложил его подозрение к науке. — Прокофий под моим руководством сформулировал, что ум такое же имущество, как и дом, а стало быть, он будет угнетать ненаучных и ослабелых…
— Тогда ты вооружи дураков, — нашел выход Копенкин. — Пускай тогда умный полезет к нему с порошком! Вот я — ты думаешь, что? — я тоже, брат, дурак, однако живу вполне свободно.
По улицам Чевенгура проходили люди. Некоторые из них сегодня передвигали дома, другие перетаскивали на руках сады. И вот они шли отдыхать, разговаривать и доживать день в кругу товарищей. Завтра у них труда и занятий уже не будет, потому что в Чевенгуре за всех и для каждого работало единственное солнце, объявленное в Чевенгуре всемирным пролетарием. Занятия же людей были не обязательными, — по наущению Чепурного Прокофий дал труду специальное толкование, где труд раз навсегда объявлялся пережитком жадности и эксплуатационно-животным сладострастием, потому что труд способствует происхождению имущества, а имущество — угнетению; но само солнце отпускает людям на жизнь вполне достаточные нормальные пайки, и всякое их увеличение — за счет нарочной людской работы — идет в костер классовой войны, ибо создаются лишние вредные предметы. Однако каждую субботу люди в Чевенгуре трудились, чему и удивился Копенкин, немного разгадавший солнечную систему жизни в Чевенгуре.