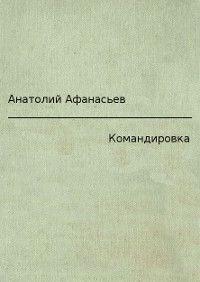Я не успел отреагировать на угрозу, потому что он тут же сменил тему. Я слушал его интеллигентное дребезжание и жалел его, такого сильного, интересного человека, вынужденного ломать комедию; и себя жалел, за то, что должен его слушать и хлестать без времени коньяк. Я чокался с Николаем Петровичем и видел, любая женщина, даже если не полюбит, будет счастлива связать с ним свою судьбу. Он был из тех, которых мало. Что же такое случилось с Натальей Олеговной? Почему не хочет она с ним быть? Неужели потому только, что силен над женским естеством гнусный закон «с глаз долой — из сердца вон»? Но сейчас–то он здесь, на глазах, дома. Красивый и обаятельный, умеющий раздавить врага насмерть могучими руками. И не она ли сказала утром: «Не хочу!»
Я посоветовал ей: «Стирай ему, спи с ним!» — а она ответила с угрюмой тоской: «Не хочу!» Чего же ты ищешь, Натальюшка, во мне? Я никак не лучше Николая Петровича.
Николай Петрович покинул меня с миром. Руки он не подал, но откланялся вежливо. На прощанье глянул — как ножом пырнул. Наверное, посетовал напоследок, что волею судеб мы поставлены в культурные отношения и он не может попросту звездануть меня кулачищем по башке.
Все–таки он приходил меня пугануть. Не иначе. Пугануть и оглядеться, прикинуть — велика ли опасность.
Поздно вечером позвонила Наташа.
— Он уедет через три дня.
— Кто — он?
— Муж, кто же еще.
— А сейчас он где?
— В ванной.
— Готовится, значит, ко сну. Ты–то почему медлишь? Быстрее в постель!
— Хочешь, я сейчас к тебе приду?
— Чего ты от меня ждешь, Натали? Чтобы я на тебе женился?
Там, через три дома — молчание и глубокое дыхание. Там переживают мой цинизм. Наконец:
— Нет, Витя. Не хочу.
— Ну и ныряй поскорее в супружескую постельку.
— Я завтра позвоню. Спокойной ночи.
Все, отбой. Назавтра она не позвонила. И ни назавтра, и ни послезавтра, и никогда. Что такое? Уже все сроки миновали, уже Наташин супруг, мой друг и собутыльник Николай Петрович, должно быть, в Ташкенте, а ее все нет. Ни слуху ни духу.
Тогда я начал сам названивать, и каждый прокрут телефонного диска перерубал во мне какие–то держательные нити. Сел я за аппарат бодрый и самоуверенный, с пренебрежительной миной, а через час названивания движения мои уже напоминали судороги тряпичного кукольного паяца. Я с трудом попадал тряпичным пальцем в дырочки диска и несколько раз набрал чужой номер, в квартиру к нервному нерусскому человеку. Этот человек каждый раз взрывался, изощренно ругал меня и грозился вызвать почему–то патруль; южный акцент придавал его угрозам дьявольскую убедительность. Невольно я стал оглядываться на входную дверь, с усилием вращая своей тряпичной шеей. Я думал: только бы дозвониться, только бы дозвониться. Дозвонился в конце концов.
— Ты где шляешься, Натали? Почему тебя дома нету?
— На вызовах была. — Голос еле слышно донесся из потустороннего мрака, и я испугался. Я так испугался, что мое размягченное тряпичное тело чуть не расползлось в бесформенную кучу.
— Наташа, милая, что с тобой?!
— Ничего.
— Ты не больна?
— Нет, но очень устала. Не звони мне сегодня, Витя. Пожалуйста.
Мрак, клубок мрака пополз оттуда по проводу, и я ясно увидел: из трубки вытекла струйка серого едкого дыма и устремилась к форточке.
— Натали, ты что придумала?! Ты что придумала? Давай объясни!
Наташа ответила бесцветным тоном:
— Я думаю, нам лучше расстаться. Правда лучше, Витя.
— Ах так! Давай! Давай расстанемся. Думаешь, буду умолять? Жди, как же. Сиди и жди у телефона. Сейчас приползу на брюхе. Только переоденусь. Жди!
Швырнул трубку на рычаг, но силы у меня осталось мало, и телефон даже не вздрогнул. Через минуту я опять набирал ее номер. Глухо. Она его отключила. Это я ее научил отключать телефон. Раньше никогда такого не было. Ладно.
В любви все одинаково юны.
Накинув плащ на пижамную куртку, я выскочил из дома. В ее окне горел свет. Я поднялся и позвонил — ни звука. Позвонил еще и еще, потом постучал, я ведь знал, что она дома. «Наташа! — позвал я негромко, соблюдая все же приличия. — Открой, не сиди, как мышь!» Ни звука. Я нажал звонок и не отпускал минуты две. Молчок.
«Может быть, она ушла, спустилась на втором лифте, пока я подымался, мелькнула у меня утешительная догадка. — Невероятно, чтобы она была дома и не открыла. Вот так просто взяла и не открыла».
Саданув напоследок в дверь кулаком, я вернулся на улицу, взглянул на ее окна. Свет был потушен.
Дома я сел в кресло и погрузился в прострацию.
Только время от времени механически набирал ее номер. Так я и ночь провел: лежал, иногда вставал и пил на кухне воду. Проглотил две таблетки димедрола — не помогло.
К утру у меня заныло левое плечо, боль постепенно опустилась в руку и пальцы онемели. Я высосал лепешку валидола. С таким же успехом мог съесть весь тюбик.
Тщетно молил я о помощи разум, так часто выручавший меня в житейских передрягах. Это мучительное размягчение воли было ему незнакомо и неподвластно. Мой мозг отключился там, на площадке перед ее дверью, и теперь меланхолически наблюдал за мной со стороны. С чем сравнить эту пытку? Пожалуй, нечто похожее я испытал после наркотического укола перед операцией, когда еще не уснул, но не в силах был пошевелиться, даже слова не мог сказать.
Если бы Наталья вдруг вошла сейчас в квартиру, у меня не хватило бы сил ни обнять, ни ударить ее.
Благодарю тебя, милая, и за это, хотя я чуть не сдох в ту ночь.
К утру отдохнувший самостоятельно мозг подсказал мне спасительную версию происходящего. «Она сумасшедшая, — подумал я с облегчением. — И живет по своим законам, вне обычной логики. Отсюда ее внешнее постоянное хладнокровие, создающее видимость неуязвимой брони. Это не хладнокровие вовсе, а самопогружение сумасшедшей. Она не хочет меня погубить, нет, может быть, даже по–прежнему любит, и не ведает, что творит. У нее приступ шизофрении. Она не знает, что необходима мне. Не знает — поэтому и не открыла, и не звонит, и холодна. Я ведь тоже не отвечал на ее звонки. Наташа — маленькая обезьянка — подражает мне, и только. Я сам во всем виноват, из кожи лез, чтобы ее подчинить себе, выдавить из нее непокорство, превратить в рабу — по привычке, по привычке, а она ничего этого не понимает, потому что живет по своим законам. Ее бедный умишко бьется в тисках безумия, как галчонок в клетке. Птички все на веточке, лишь я, бедняжка, в клеточке. При этом она лечит людей, растит дочку Леночку, мужественно пытается быть, как все, — здравомыслящей и счастливой».
На службу я не пошел, позвонил Владлену Осиповичу и наврал, что нагрянули родственники из Саратова. Перегудов, кстати, любит отпускать подчиненных на день–два своей властью, это дает ему ощущение реального превосходства.
Был четверг, нечетное число — у Наташи утренний прием. Побрившись и приняв душ, я побрел в поликлинику. У ее кабинета три человека — я занял очередь, сел. Надо бы поймать момент, когда она останется одна, когда медсестра отлучится. Иначе что же.
Я ждал. На сердце было тихо и пусто. Март шуршал в окна поликлиники первой капелью. Ранняя весна в этом году.
Сестра выходила и возвращалась, бросая быстрые взгляды на сидящих. Когда она выскочила в очередной раз с кипой медицинских карточек, я догнал ее в коридоре:
— Девушка, передайте, пожалуйста, Наталье Олеговне, ее муж ждет.
— Хорошо, — не удивилась, бровью не повела.
Наташа вышла из кабинета, заметила меня, свернула по коридору направо, торопясь и не оглядываясь.
Все во мне перевернулось от радости. Как это я жил прежде без нее?
У кабинета главного врача — предбанник, стоят стулья у стен и огромный пыльный фикус под окном.
Около фикуса мы и встретились.
Матовый овал бледного лица, речное течение взгляда, мальчишеская улыбка, на груди болтается фонендоскоп — как я мог жить без нее?
— Натали, ты сумасшедшая. Я тебе зто прямо говорю, как специалист.
— С сумасшедшими обращаются бережно, — металлический голос с привкусом лесных шорохов.
— Я буду бережно. Талка, неужели ты не видишь, как мне плохо?
— Витя, я на работе. Поговорим после… А ты почему прогуливаешь?
Я потянулся и чмокнул ее в щеку, уловив запах лекарств. Засмеялась, моргает, словно ничего у нас и не случилось. Каждое ее моргание люблю. Пьяный я стоял возле фикуса, шальной, молодой, совсем на свете не погулявший. Ни дня.
— Тала, ты не будешь больше меня бросать?
— Ну, не буду. Я пойду, Витенька, ждут.
— Скажи что–нибудь обнадеживающее.
— Я люблю тебя, прямо беда. Ой! — целоваться не решилась, удрала к своим больным.
Когда я вышел на улицу, март плясал во мне. Долго мы живем, а вспомнить, честно говоря, почти нечего. Так — обрывки какие–то, любопытные случаи. И еще такие вот минуты, если они у кого бывали, — как огненные столпы за спиной…
О многом хотел бы я поговорить с Натальей Олеговной, порассуждать, поделиться наблюдениями, да все как–то не выходило. Видимо, время не пришло для отвлеченных разговоров. Некогда было.