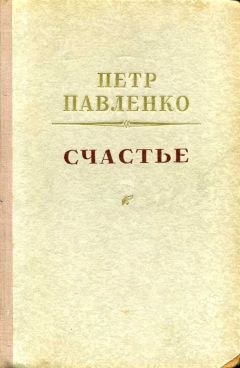Воропаев на глаз прикинул расстояние от дома до ближайших строений колхоза, — вышло что-то около двух километров.
Открытие было пропастью, в которую обрушились все его планы. Молоко молоком, но как же Сережа в эдакую даль будет ходить в школу? Да не летом, а в зимние ветреные месяцы? Ну, а кто же им будет готовить, — ведь столовой не обойдешься, и где она, к черту, эта столовая, где-нибудь у самого моря? А чем топить? И кто же будет всем этим заниматься?
И ему сразу стало ясно, что инвалид с одной ногой — не хозяин и что ему, Воропаеву, не жить в своем доме.
«А если бы она была со мной?»
И как только он представил себе легкую, всегда стремительную фигуру Александры Ивановны Горевой, в ее накрахмаленном докторском халате, среди хаоса этой запущенной, от всего удаленной усадьбы, вообразил, как она будет тут колоть дрова и таскать воду, — он понял, что и с нею жизнь здесь, в этом горном гнезде, была бы нелепа и неосуществима.
Да если бы даже встала из могилы жена Варя, мать Сергея, та, которая все могла и все умела, то и тогда не получилось бы тут, пожалуй, никакой жизни, потому что у Вари, хоть она была и поближе к земле, чем Александра Ивановна, все равно не было уменья жить вдали от того, что называется почему-то цивилизацией и заключается главным образом в теплой уборной, электричестве, центральном отоплении и газовой ванне.
В сорок три года, потеряв на войне много сил, трудновато начинать новую жизнь на развалинах чьей-то чужой.
Воропаев покопался в рюкзаке, достал флягу и залпом выпил два колпачка водки.
Не будет здесь хорошей жизни. Приглашать молодую женщину, родившуюся в городе и сформированную городом, в захолустье, на разведение кур и на ужение рыбы!.. Да нет, ерунда!
Но что поделать, если всю жизнь он мечтал жить у моря и был уверен, что такая жизнь и есть выражение наивысшего счастья! И вдруг почувствовать, как эта мечта повлекла его сюда на позор и стыд?
Коренной сибиряк, Воропаев впервые увидел море, уже будучи взрослым, — в Астрахани, у Кирова. Оно сразу пленило его, как существо живое, одухотворенное, с которым можно навеки связать свою судьбу. Жизнь шла, однако, другими путями. Комсомольские годы прошли в астраханских степях, потом, уже коммунистом, став командиром, он сторожил границу на Амуре, строил Комсомольск. Армия стала его домом на добрую половину жизни, а полки, дивизии и корпуса — теми селами и городами, с воспоминанием о которых связывались его представления о климате, пейзаже и условиях быта.
Чтобы рассказать о Памире или Кулундинской степи, он сначала должен был вспомнить, что это страничка полковой истории.
Хасан, Халхин-гол, север Финляндии тоже запомнились больше именами товарищей и боевыми операциями, чем общим обликом жизни. И одно лишь море нежило его воображение картинами покоя и полного счастья, которых всегда немножко нехватало его беспокойной натуре. Наконец-то море это было рядом, но, оказывается, — его могло и не быть. Воропаев был выброшен на морской берег, как затонувший корабль.
— Ну, ничего, займемся другим, — сказал он, вставая.
Несколькими часами позднее Воропаев вошел в кабинет Корытова. Тот задумчиво стоял у карты СССР, размечая линию фронта.
— Нашел что-нибудь подходящее? — равнодушно спросил он и, не подождав ответа, что, кажется, было в его характере, заметил: — Зря не пошел в счетоводы. Будущие миллионеры, брат. Через два года они бы тебе такую хату воздвигли — ой-ой-ой!.. Слышал сводку?
Воропаев, не перебивая и не поддакивая, старался молчанием подчеркнуть свое полное равнодушие к жилищной проблеме.
— Что я не слыхал, это еще полбеды. А что народ ее у тебя не слыхал — это очень обидно, — сказал он жестко.
— Какой такой народ? — вяло поинтересовался Корытов, ища и не находя на карте нужного ему пункта. — Кто-нибудь один не слыхал, а ты — народ. Смотри, пожалуйста, какой любитель народа. Одер — здоровая река? Не найду. Меня, брат, твой отдельный человек не интересует, — сказал Корытов, отходя от карты и надвигаясь на Воропаева с явным намерением дать и выиграть словесный бой. — Меня интересуют люди. Я люблю обобщать. Меня не интересует, если твои мысли — только твои.
— Ты до того дообобщаешься, что, пожалуй, и себя станешь рассматривать как коллектив. Как это тебя не интересует отдельный человек? В таком случае тебя, что же, и Стаханов не интересует, ибо хотя стахановцев много, но Стаханов один?
— Полегче. Тут тебе не дискуссионный клуб. Не увлекайся, пожалуйста.
— Я же вижу, как ты рассуждаешь. Конечно, говоришь ты, таких, как Воропаев, тысячи, и потому он — Воропаев — не может меня, то есть тебя, интересовать в меру своей одной, тысячной ценности. Людей ты берешь оптом, — поштучно их нет смысла изучать. А ведь это глупо, Корытов, тут, брат, даже и не пахнет марксизмом.
Ему хотелось поговорить, но Корытов сухо прервал его:
— Об этом мы в другой раз побеседуем. Говори, зачем пришел.
— Шел я поступать к тебе в пропагандисты, — сказал Воропаев, улыбнувшись, потому что увидал, что Корытов и не поверил ему и вместе с тем обрадовался. — Да, да, даю честное слово.
Нахмурившись, чтобы придать лицу значительное выражение, Корытов сел в свое кресло.
— Уверен был, что придешь, — и с размаху рубанул рукой по воздуху. — На пари готов был итти, что так получится. Ну что ж, я рад. Не нам, брат, с тобой, старым партийным работникам, на этих дачах жить, не наша это профессия. Пускай другие живут, — и, приметив несогласие на лице Воропаева, воскликнул с искренним удивлением: — Да на что тебе дача? Лучше взять тебе хорошую квартирку, близ моря, у набережной. Нет, правильно, честно ты поступил. Ну вот, давай и договоримся. Кем хочешь? Пропагандистом, инструктором? На все согласен. А то выдумал — дом ему. Полковник, начальник политотдела корпуса, шесть орденов, печатные труды...
Корытов быстро, без единой ошибки выбирал из памяти анкетные данные о Воропаеве, и тот должен был невольно признать, что у секретаря отличная память.
— Да ты же, чорт тебя возьми, какой опыт партийно-массовой работы имеешь! — продолжал голос Корытова.
— Не уговаривай, я же сказал тебе, что хочу работать в райкоме. Но сначала устрой жилье. Это мое непременное условие.
— Лена, Леночка! — входя в раж, прокричал Корытов, кивая в то же время в знак согласия со словами Воропаева.
— Да что она у тебя — управделами, что ли?
Безмолвно вошла Лена.
— Все у меня в разгоне, я да она одни остались. Ключи от общежития у тебя, Леночка? Надо койку устроить товарищу Воропаеву.
— Позволь! Что за чепуха, какую такую койку? Ты мне дай квартиру, вот ту самую, близ моря, на набережной, я же ребенка должен привезти, пойми ты, наконец. И сам до чорта болен.
— Все со временем будет, — сказал Корытов. — Квартиру я тебе хоть сейчас назову. Приморская, восемь, квартира одиннадцать, — свою отдаю, понял? Владей. Лучшей квартиры в городе нет. Ну, а все-таки жить пока что придется тебе в общежитии, понял? В квартире твоей нет ни одного стекла, ни одной рамы, печи сломаны. Понял? Куда бы нам его поместить? — обратился он к Лене. — Кто с тобой рядом?
— Мирошин.
— Ага! Прекрасно. Вот пускай мирошинскую комнату и занимает. Ключи у тебя? Воропаеву всего дня на три, а там видно будет. — Он обратился к Воропаеву: — Завтрашний день тебе на устройство, на подготовку, а послезавтра поедешь по колхозам. Я тебе дам три колхоза, побудь там с неделю, поговори с людьми, помоги им. А с обкомом я насчет тебя сам договорюсь.
— Куда же я денусь по возвращении?
— Лена тебя опять куда-нибудь сунет. У вас все так живут. Крутимся, как карусель. Ну иди, Леночка.
Они остались вдвоем.
— На фронте тебе было, конечно, легче. Там у тебя адъютанты, автомобили, телефоны. Приказал — сделали. Так? А у нас здесь, в тылу, в побитых местах, — чистое горе. Вот я тебя командирую за двадцать пять километров, а машины у меня нет, и телефона тоже нет, и почта только два раза в неделю пешком ходит. Понял?
Вид у Корытова был страдальческий, точно он хвастался трудностями, преодолеть которых не мог.
— У вас все так настроены, как ты? — иронически спросил Воропаев. — Зачем ты сам себя уговариваешь, что неудачи неизбежны?
— Вот-вот-вот. Об этом я и хотел с тобой поговорить. Ты мне, друг, должен организовать у нас в районе черкасовское движение. Дворец тебе тогда дадим, ей-богу, — с шутливой пренебрежительностью взмахнул рукой Корытов.
— Да что ты толкуешь мне о черкасовском движении. Я знаю Черкасову, я с ней помногу беседовал и понимаю, откуда и как у нее появилась идея движения. Ты помнишь, с чего она начала — с дома сержанта Павлова, с этого знаменитого сталинградского дома-легенды. И знаешь, почему? Потому что, откровенно говоря, боялась, что понаедут новые люди и в суматохе не вспомнят о знаменитом доме, и погибнет слава, забудется подвиг. Ей захотелось поначалу собственно не город восстановить, а только один этот дом — во имя самолюбия. И она восстановила его, но за это время почин ее был подхвачен печатью, общественностью, партией, обобщен, как ты любишь говорить...