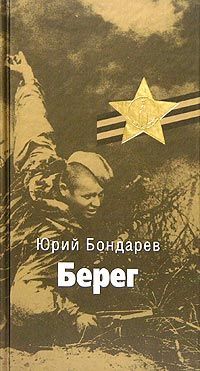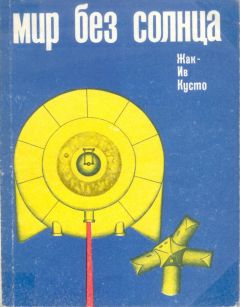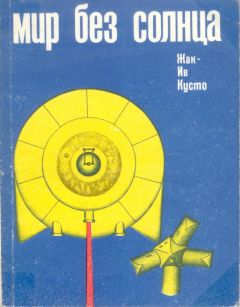Никитин чувствовал, каких усилий стоило бы ему заставить себя сделать на неподчиняющихся ногах шагов двадцать к озеру, уже наполовину очищенному от густоты дыма, двухглубинному в голубизне отраженного неба, спуститься к солнечной, невообразимо покойной воде, наклониться, зачерпнуть ее руками, хотел сказать: «Сойдет», — но тут увидел заостренный вниманием взгляд Княжко, обращенный в конец просеки, где наперебой дробили яркий теплый день дальние автоматные очереди, и тоже непроизвольно обернулся туда.
— Так, — сказал Княжко. — Соседи появились.
Там, в конце длинной просеки, золотисто отсвечивающей стволами сосен в мягкой прозелени лесного коридора, возникла скученная группа людей, вынырнула из леса, оттуда долетел голос команды, и эта группа людей устремилась рысцой по направлению озера левой стороной просеки; впереди скачками бежал квадратный, в офицерской фуражке человек в развевающейся плащ-палатке, с автоматом поперек груди; он, не оглядываясь, выкрикивал накаленно: «Не отставать, братцы, не отставать!» — и широко загребал по траве яловыми сапогами, весь верткий, шустрый, весь нацеленный одержимо при своем куцеватом, незначительном росте. Приближаясь к озеру, он первый заметил орудия на просеке, властно и упредительно вскинул руку с зычным приказом: «Стой! Ждать здесь! Отдохнуть!» — и, как шар, пущенный ударом, кинулся к орудиям, развевая крыльями плащ-палатку, крича на бегу:
— Артиллеристы, дьявол ваша бабушка! Загораете, пукальщики? Спины на солнце греете! Сачкуете?
Он, запыхавшись, подбежал к офицерам, одновременно обрадованный и злой, молодое взмокшее лицо было отчаянно какой-то неразряженной отчаянностью недавнего боя, его видавшая виды фуражка с полурасколотым, покорябанным козырьком съехала на затылок, его угольно-черные быстрые глаза, обведенные ожженной краснотой век, всполошенно зыркали по орудиям, по Никитину, по Княжко, как будто не находили того, что должны были найти здесь.
— Вы, буссольные сачки, тыловые артиллеристы, боги войны! По ком же стреляете? Окопались на солнышке — и дрыхнете! Попочки в целости сохраняете? — закричал он привыкшим к подхлестам пехотинским голосом, взвинченным негодующим презрением. — Здорово живете, тыловики рязанские! Попукали из пушек — и загорай? Бой для вас кончился? Сидите, гвоздь вам в карман!
— Ну, вы!.. — неожиданно вскипел Никитин. — Чего орете, как лошадь, черт вас возьми! Откуда свалились?
Однако Княжко, дрогнув лишь бровью, не изменив холодно-упрямого выражения, выпрямился упруго, поднес ладонь к виску, спросил спокойным тоном, с сухой официальностью, за которой стоял сжатый гнев:
— С кем имею честь, разрешите спросить? Исполняющий обязанности командира батареи — лейтенант Княжко. Представляюсь, чтобы вы знали, с кем имеете дело. Прекратите кричать и остыньте. Держите себя в руках! — Княжко поморщился. — Прошу объяснить, что за крик, в чем дело?
— Крикун не крикун! Бой идет, людей кладу, а вы, боги войны, на солнышке валяетесь!
Пехотинец заговорил убавленным тоном, несколько осаженный вмешательством Княжко, беспокойно зыркая то на своих людей, ждущих его в тени сосен, то на орудия, где, потревоженные зычным криком, шевелили головами расчеты — и завиднелись там черные безобразные пятна вместо лиц. Пехотинец вдруг передернулся движением спешки, его плоский и вместе курносый нос расширенно прорезался ноздрями; и, выпростав руку из-под плащ-палатки, он в раздражения вздел ее к покорябанному козырьку.
— Командир роты старший лейтенант Перлин. Так, чтоб тоже знали, кто вас обложил. Ладно, баш на баш! — И, сверкнув зубами, так бросил вниз кулак от виска, точно шапкой об землю ударил. — Ладно! Поскалились друг на друга — и конец! Не чужие мы друг другу, ребята! Помог бы мне, лейтенант, ну? Огоньком бы меня поддержал! Ну? Никак я их, гадов ползучих, б… фрицевских, из лесничества не выбью! — заговорил он уже просительно и страстно. — Засели в доме, а там стены — во! Лупят из автоматов — и никак в лоб не атакнешь! И бронетранспортер их там еще поддерживает! Хоть землю зубами рви! Я вот сам со взводом в обход пошел, с тыла зайти — а это время, лейтенант, и тоже вилами писано! Дали бы по ним парочку снарядов, и выколупнул бы я их враз, как тараканов! А? Ну? Братцы артиллеристы, подавить бы бронетранспортер парочкой снарядов — и крышка! Ну? Прошу, братцы, душой прошу! Не дайте роту положить, пехота — тоже люди! Крышка войне ведь, чуется, братцы, зачем людей ложить, жить-то всем охота! Огоньком бы нам помочь! Ну? Огоньком бы их, курв, выкурить!..
Никитин видел искательно требующее, униженное, даже неловко-стыдливое лицо низкорослого старшего лейтенанта, командира стрелковой роты, еще минуту назад грубого, властного, видел встревоженно поднятые головы расчетов и среди других взглядов — угрюмый и ненавидящий взгляд Меженина, направленный на пехотинца, этого раздавленного сейчас жалкой просьбой стрелкового офицера, вероятно прошедшего огонь и воду. Но, вмиг опаленный злостью, Никитин подумал, что пехотинцу теперь неважно совсем было, как, зачем они, артиллеристы, оказались здесь, почему и в силу каких обстоятельств была взорвана дамба на озере и горела на том берегу самоходка, а важно было сохранить в последнем бою, в последней атаке людей своей роты возле какого-то лесничества. И он неприязненно спросил, не скрывая издевки:
— Зачем на вас плащ-палатка? Может, мешает атаковать? Или дождя ждете?
— Мешает? Хрена с два! Чтоб пули путались! — вскричал отшлифованным голосом старший лейтенант и, как-то нагловато веселея, потряс полами плащ-палатки, пробитой, черневшей дырами. — Видел сколько? После каждой атаки — отметина! С Днепра ношу! Заколдованный панцирь! Не за себя прошу, братцы! Войдите в положение! Не имею я права своих хлопцев после Берлина положить! Нахоронился я их сотнями, куда еще больше! Жить-то кто-то должен. Или уж не люди мы!..
— Прекратите! Покажите на карте лесничество, — не без брезгливости перебил Княжко и вынул из планшетки новенькую, выданную перед Берлином карту. — Где оно?
— Эх, лейтенант! Да без карты — рядом! До конца просеки, потом — метров триста по проселку. На северо-восток от озера, рядом! — Старший лейтенант тыкнул заскорузлым пальцем с въевшейся под ногтем земляной грязью в карту. — Ни к чему тебе, лейтенант, карту читать. Словам моим не веришь? Не штабист ведь ты? К чему карта?
— А затем, что хочу знать, выйду ли я от лесничества к шоссе, — непререкаемо отрезал Княжко, отодвигая палец Перлина на карте. — Я должен выполнять, чтоб вы знали, свою задачу, а не стрелять по лесничеству, где поджала хвост наша уважаемая пехота. Так, — сказал он, складывая карту. — Проселок через лес соединен с шоссе. Километрах в двух. Прекрасно… Ты как, Никитин? Возражений нет?
«Неужели он решил? — подумал Никитин, содрогаясь от неумолимого и педантичного упорства Княжко. — Он еще надеется встретить на шоссе самоходки? Нет, мы делаем безумство какое-то!»
— Ты командир батареи, — ответил Никитин глухо, и этот ответ был косвенным согласием его.
— С чужим документом в рай? — прохрипел Меженин около орудия. — Такое дармоедство, пехота, известно как по-русски называется? Такое слово известно?..
— Тогда прекрасно, — непроницаемо проговорил Княжко, краем глаза глянув на Меженина, и потом, застегнув сумку, думая что-то свое, нахмурился на Перлина. — Прекрасно. Посмотрим ваше лесничество. Давайте своих людей, только быстро! Поможете расчетам катить орудия на руках! Командуйте!
— Молодец! Дьявол! Не забуду! Люблю такое! Уважаю! — закричал старший лейтенант и в счастливом порыве сорвал с шеи автомат, дал по воздуху оглушительную очередь. — Ко мне, пехота, ядрена ваша бабушка! Помощь прибыла! Берись за орудия руками и зубами! Быс-стра-а!
И с неостывающей неприязнью к старшему лейтенанту, к его шумной, крикливой радости, к пехотинцам, которые несостоятельны стали подняться в атаку, рискнуть взять лесничество, на что пошли бы еще неделю назад, и поэтому сейчас охотливой трусцой бежали сюда по просеке за нежданной артиллерийской помощью, Никитин ощущал тягостное сопротивление своему согласию, этому решению Княжко, хотя в то же время знал, что другое решение быть принято им, вероятно, не могло.
Еще метрах в двухстах от лесничества, когда с криками, суетливой толкотней пехотинцев, обрадованно возбужденных артиллерийской подмогой, катили орудия полузаросшим лесным проселком, Никитин по звукам усиленной стрельбы за деревьями — по басовитому гудению крупнокалиберного пулемета, пронзительному лаю немецких автоматов, ответному треску наших очередей, пению излетных пуль в чаще, по рикошетному их щелканью о пощипанные стволы — по всем этим звукам он угадывал и чувствовал необратимую реальность близкого боя, куда придвигались они, и все злее, все неотступнее нарастала недоброжелательность в душе к этому пехотному старшему лейтенанту, плосконосому, кривоногому, суеверно не снимающему свою потрепанную, пробитую пулями плащ-палатку. Ему, старшему лейтенанту, пройдохе и нагловатому крикуну, с непонятной фамилией Перлин, по первой видимости, воображалось, что батарея хитроумно и вовремя вышла из боя, отсиживалась в стороне, благоразумно отдыхала, отлеживалась на солнцепеке, тогда как его пехота, погибая, исполняла свой смертельный долг, без поддержки огнем, без артиллерийской помощи.