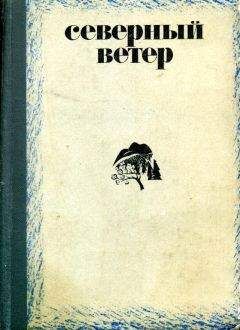1972 г.
В шахте Пазников работать не собирался. Скептически говаривал Ушакову, своему закадычному школьному дружку:
— Нет, меня калачом не затянешь. Ишачить там, в темноте, не намерен. Федор Пазников простор уважает...
Словно опасаясь того, что придется невольно — поселок-то шахтерский: одни терриконы да копры — выбирать профессию горняка, он, провалившись на экзаменах в геологоразведочном техникуме, домой не вернулся, а подался по комсомольской путевке в Сибирь на строительство Ангарской ГЭС.
По прибытии в Ангарск и его и еще одного товарища послали в отдаленный леспромхоз заготавливать дрова. Коротко объяснили: «Кому-то и этим делом надо заниматься».
Надо так надо, и вместо великой стройки оказался Пазников в глухой таежной деревушке. И быстро, будто на сквозняке постоял, выветрился из него начисто тот захватывающий запал, с которым он ехал в Сибирь и который разгорался в поезде, где всю дорогу напролет возбужденно спорил, до хрипоты горланил песни, распивал привокзальные бутылки кислого заграничного вина. Все было просто и буднично.
Рубили деревья на дрова, а по длинным вечерам «жарились» в карты, «стучали» в домино, повадились ходить к вдовам. Товарищ был постарше, поопытнее, он быстро освоился, убеждал напарника:
— А зачем нам эта стройка? Все эти ура, штурмы... Знаем мы эту комсомольскую лихорадку... Шум один, а денег никаких... Так что не рвись ты, Федюша, не строй из себя героя... Все это сплошное кино...
Но Пазников быстро скис. Ему надоела медлительно-сонная жизнь деревушки, картежная игра и похожая на игру любовь к красивой, но скучной и вялой тридцатилетней вдове Полине.
— Так и живешь? И никуда не тянет? Нет? — выпытывал он у нее и слышал в ответ одно и то же:
— Мы привычные. Ничо не деется.
Пазников, озлобляясь, передразнивал:
— Ничо не деется, — и сердито, распаляя себя, кричал: — Так уж и не тянет! Нисколечко? Жить, поди, скучно, неинтересно? Одна тайга — и все! Ты вот шахту, например, не видала... А это — копры, терриконы, шум вентилятора, такой ровный, басистый, будто зверь какой из-под земли ревет... А еще огни, как на маскараде... Много огней, ярких, сверкающих... Ты понимаешь это?
— Нет, не понимаю, — и звучно хлопала ладошкой по округлому рту.
— Так пропадешь ты здесь! Сдохнешь!
Полина приваливалась большим жарким телом, тихонько посмеивалась, будто от щекотки, лениво цедила:
— Дурачок-от.
Пазников сердился, обзывал ее безмозглой чуркой, но выдержать одиночества больше двух дней не мог и снова приходил к Полине.
Так прожил он всю долгую зиму, а весной случайно занесло в деревушку киношника Григорьева, распутного и веселого парня. Он легко отговорил Пазникова от возвращения в Ангарск и предложил ему стать своим помощником.
Пазников согласился. И началась у него суматошная, бродячая жизнь, но и она быстро наскучила, не давала облегчения. Григорьев этого не понимал, пожимал плечами, спрашивал:
— Чо тебе надо, чо?
— Не знаю... Душа у меня такая...
Все чаще снились терриконы и копры, он даже чувствовал тот привычный с детства горьковато-угарный запах, которым был пропитан каждый уголок поселка. Хотелось взглянуть на бешено крутящиеся шкивы копра, на маскарад сверкающих огней, на почерневшие от угольной пыли лица шахтеров, поднявшихся на-гора. Тоска по родным местам настигала его и в дождь, и в знойный полдень, и в холодную ночь.
Он отпустил бороду и усы, закоржевел и свою одежонку обтрепал так, что стыдно вдруг стало, когда приехал однажды в Ангарск. И понял: жизнь его крутится не в ту сторону, и еще сильнее потянуло домой. К Григорьеву он уже не вернулся, а, рассчитавшись, поехал на родину.
Осенним вечером Пазников сошел с поезда и уже затемно добрался на попутной машине до поселка. Домой шел не центральной, ярко освещенной улицей, а притихшими, полутемными переулками. Он вспомнил, что за все это время разлуки написал домой всего писем шесть или семь, не больше, последнее было отправлено в середине лета. Мать его грамоты не знала, письма просила писать кого-нибудь из двух старших замужних дочерей, давно уже переехавших в областной город. Те всегда от себя добавляли: «Пиши, Федя, чаще, не убивай мать». Видно, обиду свою на брата они высказывали и матери, и та, женщина робкая, тихая, не решалась часто ездить к ним, терпеливо ждала его письма. Поэтому последние два письма он получил только в ответ на свои, а так как он уже не писал три месяца, то и не знал, как живет сейчас его мать.
Вот и двухэтажный деревянный дом, широкий двор с детской площадкой, с кустами акации под окнами. Гулко забилось сердце, и Пазников крепко прижал к груди ладонь, будто боялся, что сердце не выдержит — разорвется.
По деревянным, рассохшимся ступенькам поднялся на верхнюю лестничную площадку, не в силах больше справиться с волнением и дрожью, с ходу постучал в обшарпанную дверь с накосо прибитым ящиком для писем и газет. Прошаркали мелкие шаги, и прежде чем голос матери спросил кто, Пазников хрипло, срываясь, зашептал:
— Мама... это я... Федор... сын твой.... — и слезы обожгли его впалые, худые щеки.
На следующий день приехали из города нарядные сестры со своими мужьями, которым скорее всего было любопытно взглянуть на «сибирского бродягу». А «бродяга», в наспех заштопанных матерью брюках и рубашке, сидел на табуретке, поджав босые ноги. Рассказ вел путано, сбивчато, сердился от того, что смотрят на него «родственнички» с нескрываемым сожалением. Честно говоря, он ожидал от них помощи деньгами, а не советами, потому и терпел, но как только ему стало ясно, что помочь они ему деньгами не сумеют, он повел себя развязно, грубо, и сестры с мужьями уехали в крепкой обиде. После их отъезда мать тихо заплакала:
— Как жить-то будешь, Федюша?..
В тот же вечер пришел Пазников к своему закадычному дружку Леонтию Ушакову. Тот уже работал на шахте бригадиром, был женат и жил отдельно от родителей в своей двухкомнатной просторной квартире. Жена его, Нина, красивая блондинка, ждала ребенка, и Ушаков, отрываясь от разговора и ласково провожая глазами жену, то и дело предупреждал:
— Ты осторожно, Ниночка, я сам принесу, отдохни...
Пазников вдруг почувствовал себя в этом тепле и уюте лишним, пришедшим как бы из другого мира. Он резко поднялся, чтоб уйти, но Ушаков усадил его, грубовато сказал:
— Не ерепенься, Федор... Хватит... Вот бери, — и положил на стол пачку денег.
Федор покраснел, замотал головой:
— Спасибо... я не за этим... я...
— Ты плохо думаешь о друзьях, Федор... Выпьем лучше, за встречу.
Они быстро договорились о том, что он, Федор Пазников, станет работать на шахте в бригаде Ушакова.
— Только запомни, Федор, никаких поблажек, — предупредил Ушаков и напомнил: — Ты меня знаешь.
— Знаю, — коротко ответил Пазников.
Еще в девятом классе поручили Ушакову взять Федора Пазникова на поруки: никак тому не давалась тригонометрия. Не разбирался ни в синусах, ни в косинусах, да и не хотел постигнуть эту мудреную науку. «Мне бы лишь троечку вывели — и ладно», — честно признавался он Ушакову. Но цепким и настырным оказался учитель, от Федора требовал знаний точных и совершенных. Никаких поблажек не допускал. Измотал своего подопечного так, что не выдержал тот, предупредил, что если Ушаков переступит порог его квартиры, то он вышвырнет его за дверь. Был он сильнее Леонтия и был уверен, что так оно и получится. Но Ушаков пришел, и все кончилось тем, что сел Пазников за учебник. А потом он уже сам приходил на дом к товарищу. В это время они крепко сдружились, и когда Пазникову приходилось слышать от Ушакова упрямые слова: «Никаких поблажек», то понимал: так оно и будет.
И на этот раз Пазников не ошибся. Было трудно, так, что ноги подкашивались, спину ломило, а Ушаков требовал одного: не отставать.
— Как все, так и ты, понял?
Но помогал — много и полезно. Не прошло и месяца, а Пазников уже работал не хуже опытных навалоотбойщиков. Тогда на лавах еще не было комбайнов. Уголь подрезали врубкой, взрывали, и нередко забой после взрыва выглядел страшновато: выбиты стойки, оголенная кровля, груда угля вперемешку с породой. А высота лавы всего метр или самое большее полтора.
Не только на коленях, лежа приходилось «вкалывать».
Думал поначалу Пазников: не привыкнуть. Одно удерживало, как ему казалось, — долг. А потом стал замечать, что не остается после работы прежней смертельной усталости и привычного осадка, который скапливался от ощущения безвыходности своего положения.
Через месяц-другой он считал себя уже полнокровным шахтером, и теперь то, что было связано с далекой Сибирью, с глухой таежной деревушкой, с Полиной, с Григорьевым, — все казалось коротким, как вспышка, сном.
Так прошло несколько лет. Пазникова не однажды сватали в бригадиры, но он шутливо отговаривался: