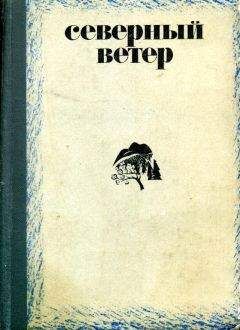Я работаю здесь уже целый месяц и каждый день слышу:
— ...Двадцать четыре... сорок три...
— Всё, — вздыхает наконец Смирнов и, покачиваясь длинным, худым телом, идет к будке. Он мнет в пальцах папироску, которую достает из-под каски.
Федор, словно встряхнувшись ото сна, оживляется, весело кричит:
— Всё так всё! Кинем кости на отдых, — и уже в который раз за это утро грозит небу: — У, сволочь, просвета даже нет.
Я пробегаю мимо них в будку, даю сигнал под землю, тяну на себя рукоятку лебедки. Деревянное строение скрипит, когда клеть вскидывается вверх, но вот канат на барабане начинает раскручиваться, и клеть быстро исчезает.
Потом я выхожу к ребятам, прислушиваюсь к разговору. Обычно слышен голос Федора, звонкий, дробный, как частые удары по тонкому листу железа. Иногда вставляет несколько слов Виктор Иванович, реже всех — Смирнов.
— Дай-ка закурить, мои вышли. В такую слякоть и пачки не хватает, — обращается Федор к Смирнову.
Тот молча снимает с головы каску, бережно, двумя шероховатыми пальцами вынимает из-под подкладки две папиросы — себе и Федору. Закурив, говорит задумчиво:
— Машина с лесом что-то задерживается. Пора бы. — Ему никто не отвечает, — наверно, потому, что знают: не то думал сказать Смирнов. Да и сам Смирнов не ждет разговора о машине. Он встает, поворачивается к нам лицом и долго смотрит в степь, за которой начинается поселок.
Я смотрю на него. Он, точно журавль, вытягивает шею, губы его тонко сжаты, руки согнуты в локтях, — кажется, взмахнет ими и скроется из глаз. А над его непокрытой головой — каску он держит в руке — все той же сгущенной массой тянутся облака. Сильно, до ощутимости, несет дождем, но самого дождя все нет, и эта медлительность тяготит нас. Тяготит своим молчанием и Смирнов.
Каждый день в одно и то же время Смирнов отыскивает там, впереди, то, чего он ждет вот уже две недели. Больно видеть его в этот момент. Лицо Смирнова морщится, и выглядит он старее, сутулее. Мне хочется встать рядом и помочь ему. Я знаю, что это же хочется сделать и Федору, и Виктору Ивановичу, но мы не двигаемся с места, а замираем и упорно ждем, когда Смирнов обрадует нас.
Наконец мы слышим его глухой голос, но говорит он не то, чего мы ждали:
— Дождь будет.
— Обрадовал чем, — беззлобно усмехается Федор. — А машина придет, не беспокойся. Начальство должно думать, ему видней, понял? Да и норму мы свою выполним, не виноваты же, что лаву давит...
Он еще собирается что-то сказать, но в это время Смирнов делает шаг назад, и губы его как-то странно подергиваются, а глаза начинают блестеть, словно пелену с них сняли.
— Петька идет, — хрипловато говорит Смирнов.
Мы выскакиваем из-за будки на ветер, отыскиваем глазами в степи фигурку мальчика.
— И впрямь он, — шептал Виктор Иванович и улыбается. — Вот пострел, глядь, не выдержал.
— Где? Где? — вертит головой Федор, опирается рукой на мое плечо, больно давит вниз.
— Да вон, за бугром, вынырнет. Жди.
Теперь не только Федор, но и я, самый маленький ростом, вижу на вершине далекого бугра движущуюся фигурку.
— Трудно ему идти, — замечает Виктор Иванович. — Глинистое здесь место, оскользнуться можно.
— Да, — едва шевелит губами Смирнов. Он весь в напряжении, не будь нас, бросился бы навстречу мальчику.
Резкий сигнал из-под земли: пора поднимать клеть и приниматься снова за работу.
— Эх, черти, не вовремя! — зло кричит Федор.
Смирнов круто поворачивается, тянет меня за рукав.
— Давай, машинист, — и сам широко шагает к штабелю.
Нас ошеломляет неожиданное поведение Смирнова.
— Да ты что! Петька ведь!
— Паша, какая муха укусила?
— Ну, чего стоим! — сердито торопит нас Смирнов. Он уже с лесиной на плече идет к шурфу.
Мы неохотно расходимся, то и дело оборачиваемся назад, но мальчика не видим — он скрылся в низине. Почему-то обидно за Смирнова, жаль Петьку. Я даже начинаю сомневаться в их дружбе.
Еще до того как мне прийти сюда, они уже были вместе. Первое время я с интересом следил за ними. Однажды спросил Виктора Ивановича:
— Родственники они?
— Кто?
— Ну, Петька этот с нашим Смирновым.
— Нет, что ты? Просто дружат.
И, заметив на моем лице недоумение, рассказал:
— Как-то прибежал Петька на шурф, видит — нет дяди Паши. Говорим ему: заболел, мол, твой друг, дома он. Петька сел на скамью, брови нахмурил — и ни с места, а потом обратился ко мне: «А вы, дядя Витя, были у него?» — «Нет, отвечаю, не был». Он вскочил как ужаленный и так слезно выкрикнул: «Да как вам не стыдно! Может, он помирает, а вам — ничего!» И убежал. А мне и правда неловко стало. После работы с Федором к Смирнову пошли. А он не ждал нас, растерялся. Да и мы не знали, с чего начать. Будто вместе много лет работаем, а друг к другу ходим раз в год по обещанию. Ну потом, конечно, разговорились. Я ему и скажи: «Твой друг нас пристыдил, ему говори спасибо». Он улыбнулся и говорит: «Сына бы мне такого. Жена есть, а детей не нажили. Вот такие дела...»
Но и после этого разговора я не переставал удивляться. Мальчик прибегал ежедневно, и я не замечал, чтобы уходил недовольный, хотя бывали дни, когда Смирнов почти не разговаривал с ним. Да и о чем они могли говорить, что мог интересного поведать Смирнов? Всю жизнь он проработал на шахте, никуда не ездил, окончил всего четыре класса! Он был из тех, чья юность прервалась войной.
Как-то привел Смирнов Петьку ко мне в будку, попросил:
— Дай ему за рукоятку подержаться. — Видя мое удивление, тронул за плечо: — Не бойся, он смышленый.
Я неохотно передал управление лебедкой мальчику. Петька схватился обеими руками за рукоятку и застыл. Глаза сузились, стали пронзительно-острыми, морщинки на лбу углубились, и выглядел Петька старше своих десяти лет. Смирнов стоял рядом, не сводил взгляда с мальчика, глубоко втягивал в себя дым папиросы. Клеть выпорхнула из-под земли, рука сама невольно потянулась к рукоятке, но Петька уже притянул ее к груди и не сразу разжал побелевшие тонкие пальцы. Он выбежал из будки, закричал:
— Поднял! Поднял!
Смирнов, улыбаясь, прижал меня к себе:
— Спасибо, малыш.
И тут я понял, почему ластится к нему Петька. Душа у Смирнова простая, открытая. Но вскоре усомнился. Смирнов при всех разговаривал с мальчиком грубо, резко. Тут не только обидеться, зареветь от злости можно. Петька ушел, склонив голову, а на другой день снова появился, все такой же суетливый, веселый.
Ему никогда не было скучно с нами. Когда мы работали, он сидел в стороне и смотрел, как мы таскаем тяжелые бревна, а когда наступал отдых, радовался больше, чем мы. Петька подбегал к Смирнову, и они уединялись. Мы замечали, как мальчик о чем-то спрашивает Смирнова и тот как бы нехотя отвечает, а если мальчику хотелось потрогать какой-нибудь механизм, Смирнов послушно вставал и шел за ним.
Меня удивляло еще и то, что Петька приходил сюда, на шурф, и только сюда. Я не слышал, чтоб Смирнов пригласил его к себе. Как-то я не выдержал и опросил его об этом. Он посмотрел на меня с удивлением, словно впервые догадался о такой простой возможности, но ничего не сказал, а когда этот же вопрос возник у Виктора Ивановича, пожал плечами:
— У него родители есть. Они любят его. Где уж мне приглашать? Хорошо, что сюда ходит.
Тут у меня родилась мысль: Смирнов просто поддерживает дружбу с Петькой для того, чтобы не обидеть мальчика, и дожидается, когда тот поймет и не станет больше ходить к нему.
Но мальчик ни о чем не догадывался, он прибегал, как всегда, улыбающийся, жизнерадостный.
В последнее время одно печалило Петьку. Он просил, чтобы его сводили вниз, под шурф, но Смирнов отговаривал, находил всякие причины.
— Да покажи ты, — не выдержал Виктор Иванович. — Как бригадир, разрешаю.
— Все в порядке будет. Никто не заметит, — говорил Федор.
— Нельзя ему, — стоял на своем Смирнов.
— Но почему? — спрашивали мы.
— Нельзя, — твердил Смирнов и отходил от нас.
А мальчик был упорен, и отказывать ему становилось все труднее. Мы уже начали подумывать, что Петька когда-нибудь не придет, и тоже с нетерпением стали ждать его. Тогда мы работали молча, о мальчике старались забыть и не напоминать о нем Смирнову.
И вот — это было в пятницу — прибегает мальчик в застиранных брюках, помятом пиджачке, стянутом ученическим ремнем, в замасленной шапке. Серые глаза широко открыты, блестят. Нам сразу полегчало.
— Шахтер ты, брат, настоящий.
— Только бы аккумулятор поменьше, и все сошло бы.
— Не тяжел он тебе, Петя?
— Нет, ничего.
Один Смирнов молчит, мнет в пальцах окурок. С самого утра он такой хмурый. Виктор Иванович спросил:
— Ты, Паша, не прихворнул случаем?
— Нет, — смутился Смирнов и вдруг заговорил о мальчике, чего раньше не делал. После ухода Петьки он обычно замолкал, и если мы говорили о парнишке, о том, какой он подвижный, интересный и любознательный, Смирнов только улыбался, прислушиваясь к нам, и лишь иногда отвечал коротко и глухо, повторяя наши слова: «Да, он хороший».