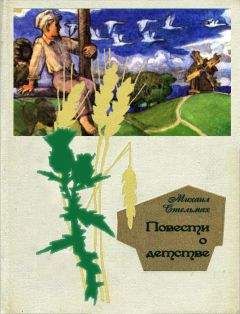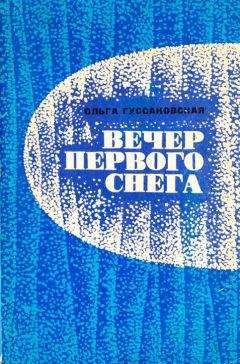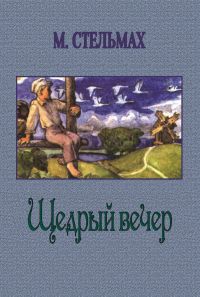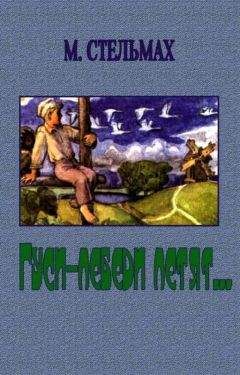— Помогай.
Дядька Трофим подошел к скупердяге, перекинулся несколькими словами и схватился обеими руками за голову. Дядька Владимир хекнул, подумал, махнул рукой: дескать, где мое ни пропадало. Тогда дядька Трофим втиснулся в гурт и вытащил оттуда дядьку Николая, тот подступил к корове, смерил ее лукавым глазом и заговорил, как в цимбалы заиграл:
— Слышите, люди добрые! Продается корова — не корова, а чудо! Имеет она четыре дойки, два рога, один хвост — и все доится! В дойках — молоко, рога собирают масло, а хвост — жир.
Покупатели сразу двинулись к корове дядьки Владимира, и вокруг него поднял хохот.
К нам молодцевато подошел дядька Трофим.
— Так продаст Владимир корову? — спросил его отец.
— Теперь продаст, если не передумает: Николай так ее расхвалит, что и Владимир поверит ему.
Скоро дядьку Трофима, отца и маму добрые люди позвали выпить магарыч.
— Как же мы все пойдем? — заколебалась иметь.
— Чего вы, Ганя, сокрушаетесь? — пожал плечами дядька Трофим. — Оставим здесь Михайлика, и пусть правит за лошадь все двенадцать рублей. Разве же мы надолго? Ты же, мальчик, не продешеви! — сверкнул на меня веселыми золотыми перстнями и подался с родителями на магарыч.
Когда они потерялись в человеческой коловерти, я хотел было на минутку отскочить к кобзарю Демку, голос которого долетал с другого конца ярмарки. Но в это время около саней, как вкопанный, остановился поджарый, в высокой шапке крестьянин. Он изумленно дунул на свои усы, отделил от них два прокуренных клочка, потом осторожно обошел вокруг Обменной, хмыкнул и спросил меня:
— Она еще живая?
Такой насмешки отец не придумал бы. Я сердито посмотрел на насмешника и отвернулся. А покупатель погладил лошадь, провел рукой по ее голове, и — чудо — Обменная не оскалилась, а потихоньку заржала.
— Таки живая! — еще больше удивился дядька. На его привядших щеках и под его уже раздвоенными усами шевельнулась улыбка.
Хотелось мне в сердцах что-то отрезать ему, да как-то сдержался.
— Мальчик, а сколько этот одер правит? — хитровато посмотрел на меня купец.
— А зачем он вам?
— Да думаю поставить его в рамку и любоваться.
— Это же и мы делали.
Покупатель засмеялся и снова спросил:
— Так какую он цену правит?
— Двенадцать рублей.
— А чего так дешево правишь? Почему не все двадцать?
— Это уж отца спросите.
— А где же он?
— Где-то на ярмарке, — погрустнел мой голос. Я догадался, что передо мною стоит истинный купец. — Дядя, вы думаете купить ее?
— Таки думаю. Или что?
— Я не советовал бы вам этого делать.
— Что-что?! — вытаращился на меня поджарый, оттопырил губы на поларшина от зубов, а потом расхохотался. — Вот наскочил на продавца! Такого еще не встречал на своем веку! Кумедия, и все!..
Ему это была комедия, а мне — горе.
— Чего же ты не советуешь покупать? — аж нависает надо мною покупатель.
Я оглянулся. Вокруг шевелилась, гудела, била в затвердевшие ладони, смеялась и вызванивала ярмарка, — ей безразличны были мои тревога и грусть.
— Так чего ты не советуешь мне быть вашим сватом? — не терпится сухопарому. — Скажешь чистую правду — куплю бублик.
— Не надо мне ваш бублик.
— Если такой богатый, то как хочешь. Говори, что должен говорить.
— Вы же отцу не скажете?
— Зачем мне на соучастника наговаривать? — правдиво удивляется весь вид поджарого. — Говори!
— Старая она очень.
— Старая, но здоровая, — заступился за Обменную покупатель. — Вы ей впадинки под глазами не заливали теплым воском?
— А это для чего? — с боязнью спросил я. Поджарый пальцами потрогал у Обменной впадинки.
— Развелось теперь хитрецов, что и коней подрисовывают, чтобы нашего брата обмануть. Еще какой она имеет недостаток?
— Немного кривобокая…
— Для рабочей лошади это не большая беда. Еще что?
— И вредна она: кусает и лягается. А быстро поехать на ней и не вздумайте.
— Спасибо, мальчик, утешил. Ох и утешил, — снова засмеялся купец, ощупывая меня удивленными глазами. — И где только вот такие продавцы берутся? Или тебя, может, наняли отгонять купца?
Именно на эти слова вернулись раскрасневшиеся родители и дядька Трофим. Я сразу же притих, уменьшился, а купец насмешливо обратился к отцу:
— Чем вы, человече, своего рысака кормите?
— Золотыми галушками, — не растерялся отец.
— Оно и видно, что золотыми, потому что все зубы проедены. А какая цена ему?
— Разве дитя не говорило?
Купец подмигнул мне усами, на которые напирал красный, как перчина, нос.
— Дитя такое сказало, что вам надо еще доплачивать, чтобы кто-то взял этого рысака.
— Ой дядя!.. — искривился я и сразу так подался назад, что чуть торчмя не зарылся.
— Что же малое наплело вам? — верит и не верит отец покупателю.
А у того смех аж холмики на щеках выбивает.
— Говорил, что ваша лошадь и старая, как Ветхий завет, и кусается, и лягается, а быстро поехать на ней — нечего и думать.
— Вот дождался помощи! — отец так посмотрел, что у меня в глазах и под ногами закружилась вся ярмарка.
— Так-так, — нахмурился и дядька Трофим. — А еще и в школе науки проходит. Вот и бери такого на ярмарку.
Покупатель, аж качается от хохота, положил руку на отцовское плечо:
— Да вы, человече добрый, не очень сердитесь на своего остряка. Все это я знаю лучше его и вас: кобыла же когда-то была моей!
— Вашей?! — совсем округлились глаза у дядьки Трофима, а по их перстням прошел туманец. — Неужели вашей?
— Моей! — добродушно засмеялся сухопарый. — Я еще каким-то подвыпившим чудакам продал ее за коня и после этого смеялся два дня и три ночи. Проснусь и смеюсь!
— Веселый вы человек, — не знает, что сказать, дядька Трофим. Отец же от этой речи оживляется, а я начинаю понемногу оживать.
А сухопарый, что-то вспомнив, подходит к Обменной, обнюхивает ее губы и спрашивает:
— Вы ее водкой не подпаивали?
— У нас не ваш характер, — хмурится дядька Трофим, а у отца ямка на подбородке вздрагивает, берет «соб» — на смех.
— Да вы не сердитесь: кто кого не обманывает на ярмарке, — дружески посматривает длинноногий на дядю Трофима. — На ярмарке мы все понемногу становимся цыганами. А с вами, надеюсь, сватами будем. Га?
— Может, и будем.
— Продал я когда-то эту клячину за десять рублей, а теперь берите девять — и по рукам. Надо же хоть жену порадовать, что выкрутил у кого-то свой рубль. Как вы на это?
— Пусть будет так! — отец ударил рукой об руку странноватого покупателя, а тот тоже ударил отцовскую руку и полез в карман по мошну.
— Вот люблю, когда какая-то коммерция есть! — наконец развеселился дядька Трофим и грохнул на меня: — Как же ты, отецкий сын, мог такого намолотить? Га?
Я исподлобья глянул ему в глаза и ответил:
— Потому что меня мой отец учил говорить только правду.
— Всюду, но не на ярмарке! — заревел глазами отец. — В торге и святые правды не говорят, — неинтересно торговаться будет. Бублик хочешь?
— Ой хочу! Если можно — с маком!
— Еще и с маком? — стало грозным отцовское надбровье. — Дома я тебе натру мака!
— Э? — не поверил я, потому что разве не видно, что гроза уже проходила над моей неразумной макитрой.
А тем временем покупатель кивает нам головой и уже тянет за повод Обменную. Я подбегаю к ней, прощаясь, обхватываю обеими руками ее голову и вижу, как в больших, возрастом притемненных глазах стоит человеческая печаль.
— Дядя, вы же только не бейте ее, потому что она старая, сработанная, — чуть ли не плача, умоляю крестьянина.
— Да не буду ее кости калечить, — пообещал покупатель и повел с торга уже не нашу Обменную.
Я долго-долго смотрел им вслед, аж пока не исчезли с глаз сначала Обменная, а потом высокая шапка крестьянина.
Знаете ли вы, что такое галифе из полотна?
На это сам Николай Васильевич Гоголь ответил бы отрицательно: «Нет, вы не знаете, что такое галифе из полотна».
И лучше бы не ведать этой роскоши. Но многое пришлось испытать детям страны, ставшей сердцевиной нового мира.
Войны, разрухи, блокады, нужды пригнули наше село к убогому ралу, к самодельному ткацкому станку и к мертвенной плошке. Наша молодая история шла по селам не в серебре-злате, а в шершавом самодельном полотне, но все равно в ее веселых голубых глазах стояли миры надежд!
Тогда и наши будущие ученые, и будущие астронавты, и чародеи слова просыпались и засыпали под урчание маминого веретена. Это урчание приносило им в сны шмелиное жужжание, и пение розовой гречки, и взмах крыльев ветряной мельницы, и какие-то такие думы, от которых у человека прорезались новые дерзания или крылья.