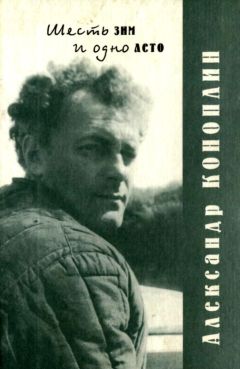— Гражданин полковник…
— Ладно, замнем для ясности. И займемся делом: раз есть входящая, значит, должна быть и исходящая. У тебя папирос больше нет? Что же ты, братец, идешь на допрос, а куревом не запасся? Ладно, поскучай, а я за тебя поработаю.
Он работал, а я не менее напряженно думал. Если бы полковник знал все, что я врал Филиповичу!
Бедняга Иван запомнил сотую часть. Но я не врал! Я фантазировал! Эта страсть обуревала меня с детства. В школе терпел неприятности от учителей и товарищей, в армии попал в беду. Арестовали меня не за «полуторку», хотя могли и только за это. Арестовали за некий союз, который я организовал в своей части. Тайный союз бывших десятиклассников с уставом и программой, сборищами в курилке. Детство, оборванное войной на самом интересном месте, продолжалось — нам все еще было неполных …адцать.
Один бывший профессор говорил, что мозг человека — загадка даже для ученого. Кроме известных каждому школьнику сведений о извилинах, в нем есть что-то такое, что с рождения определяет склонность к чему-то конкретному. У будущего бухгалтера он совсем не такой, как у будущего художника, поэта, певца, а ученым, по его словам, становятся еще до рождения. Зэки, слушая его, хохотали, а я вспоминал Пушкина: по математике у него были сплошные двойки. С другой стороны, рассуждения того старика-ученого шли вразрез с марксистско-ленинской теорией и смахивали на другую, преданную анафеме советской официальной наукой.
Фантазировал я всегда и всюду, но особенно плодотворно — в одиночке минской тюрьмы, где по воле следователей пробыл около года. Там сочинял и стихи, и прозу. После, в лагере, получив доступ к карандашу и бумаге, пытался записать придуманное в одиночке, но вспомнил лишь кое-что. Теперь это кое-что лежало в заначке у Вахромеева и представляло собой шесть общих тетрадей, исписанных убористым почерком. Друзья были уверены, что все, о чем писал, я видел своими глазами, во всех боях и приключениях участвовал, всех героинь любил и вообще только записывал виденное… Я никого не разочаровывал. Почему-то люди больше ценят литературу достоверную и пренебрежительно относятся к бесценному дару писателя — фантазии.
— Ну вот, — полковник потянулся так, что хрустнули суставы, — ознакомься и подпиши.
Из протокола допроса я узнал, что попал к очень строгому, даже жестокому следователю, дотошному, ехидному, опытному. Вопросы, задаваемые мне, отличались продуманностью, а ловушки, в которые я попадал, были просто гениальны. Только благодаря всему этому следователю Бурылину удалось установить, что в донесении заключенного И. Филиповича нет ни слова правды.
— Что со мной будет? — спросил я, все еще опасаясь за «голоса».
— Если бы это от меня зависело, то я бы приказал тебя высечь, а что решит начальство — узнаешь сам. Во всяком случае, брать с тебя подписку о невыезде считаю лишним.
Когда я, в полном изнеможении, опустился на ступеньки Управления, ледяные от ночного инея, колокол на зоне пятого ОЛПа возвестил о начале нового трудового дня. Ноги меня не держали, губы пересохли от жажды, глаза сами собой закрывались. «До чего же мы стали нежными!» — вспомнил я голос своего первого следователя, вырубившего мое сознание ударом кулака, и вздрогнул от легкого прикосновения. Открыв глаза, увидел склонившегося надо мной Счастливика. Лицо его было серым, осунувшимся.
— Били? — прошептал он, косясь на закрытую дверь Управления. — Вот суки! А говорили, теперь не бьют!
— Та ни, нэ били, — позади меня стоял Семен Гапич, — крику ж нэ було…
— Сапогами? — допытывался Счастливчик, щупая мои ребра. — Меня тоже все больше — сапогами…
— Кажуть тоби, що нэ били! — рассердился Гапич. — Я бы чул…
Возле конюшни нас встретил Вахромеев, одетый по-зимнему. В руке он держал узелок.
— Ну что, Сереженька, они всё знают, да? А почему отпустили?
— Куда это вы собрались, Сан Саныч? — спросил я, улыбаясь.
— Да, наверное, туда же, куда и ты, — растерянно ответил он и вдруг обнял меня за плечи, — Сереженька, я ведь думал…
— Ну и что? И я думал, и все мы думаем и еще долго будем думать об одном и том же. А теперь давайте выпьем чего-нибудь, а то как бы у одного из нас не поехала крыша…
* * *
Еще раньше, от опытных зэков, я слышал, что освободившихся из лагеря некоторое время «держит» тайга. Зависит это от того, сколько лет пришлось зэку жить в тайге: чем больше, тем крепче она его держит…
Меня она тоже «держала». В каком-то странном оцепенении я слонялся по поселку, исполнял по просьбе Монахова ту же работу, по привычке не требуя денег (а он — тоже по привычке — мне их не предлагал), ходил на кладбище, сидел на безымянных могилках, потом шел в конюшню и умолял Сан Саныча не губить свою молодость, ехать на «материк», а вечером пил в станционном буфете горькую.
Вместе со мной пил водку Жора. Напившись, кричал, что всегда считал меня своим другом, что его напрасно пугают отставкой, что он и сам бы с удовольствием сбросил погоны, если бы не жена, заявившая, что «с голой жопой и без погон» он ей не нужен.
— Ах, Дуся, Дуся! Сказала: «Разведуся…» — он поднял голову и посмотрел на меня мутным взором. — Послушай, а ведь это стихи. Может, мне в поэты податься?
Начальниками КВЧ в лагерях ставят абсолютно не годных к нормальной службе офицеров, как правило, безвольных, безынициативных. Жора Пронькин пребывал в этой должности пятнадцать лет. Никакой иной профессии, кроме «возглавления культуры», у него не было.
— А правда, что поэтам здорово платят?
Подошла официантка, смахнула полотенцем со стола крошки, поиграла глазами.
— Вчерась лимону навезли — ужасть сколько. Что ни работаю — первый раз. Может, принесть? От цинги первое средство. Опять же с коньячком заказывают…
Жора пьяно махнул рукой.
— Перевод денег. Я как-то в Красноярске был. В Управлении Краслага. С дочкой. Там в буфет тоже лимону привезли. Все кинулись. Я тоже купил. Дочка откусила — заплакала, я попробовал — скулы свело. Клюква и то лучше. И за что деньги дерут?
Я вспомнил Басова, его неимоверную, до судорог в скулах, страсть к этим фруктам, взял десяток и, прихватив по совету официантки бутылку коньяка, вышел из буфета.
У входа стоял и курил «Беломор» вертухай Пашка.
— Широко живешь. Все патреты лепишь? Слепи с меня.
— Хочешь лимона?
— На хрена он мне! — обиделся Пашка, и даже глаза его сузились до щелочек: уж не смеется ли над ним вчерашний зэк?
Кто-то робко тронул меня за рукав. Обернувшись, я увидел… нет, не человека, а жалкое его подобие: согнутое, колченогое существо с морщинистым лицом, беззубым, ввалившимся ртом, слезящимися глазами в венчике красных век. Голос у него был хриплый, простуженный.
— Гражданин начальник, не сочтите за дерзость… Но, если возможно… маленький кусочек! Как воспоминание…
— «Гражданин начальник»! — хохотнул Пашка. — Этот начальник позавчера казенный бушлат скинул! — губы его кривились. Похоже, он меня, вольного, ненавидел больше, чем зэка.
— Знаю, — спокойно сказал человек, — но из уважения… Так могу я надеяться, гражданин начальник? Голубая мечта двадцати лет…
Я дал ему два лимона, он поблагодарил, но не ушел, а двинулся следом за мной. Возле дома Ульяны я сказал:
— Здесь живет мой друг. Прекрасный человек. Но у него — жена! Тоже достойная женщина…
— Вашего друга зовут Валентином Владимировичем, — сказал мой спутник, — он действительно хороший человек.
Мы вошли в дом. На кухне голый до пояса Счастливчик стоял, наклонясь над тазом, а Ульяна Никитична лила ему на спину воду из чайника. Басов орал как поросенок, но от горячей струи почему-то не увертывался.
— Ты кого привел? — закричал он, увидев моего спутника. — Это же Герка Рыдалов! Его весь Краслаг знает. Бывший чекист. Теперь по столовым миски вылизывает.
— Не верти башкой, — сказала Ульяна, — в ухи налью.
— У него руки в крови, — не унимался Басов, — в тридцатых годах лично пытал арестованных.
— Я только выполнял приказ, — заученно проговорил Рыдалов, — к тому же я пострадал…
Басов вытерся чистым полотенцем, надел рубаху и, оглядев нас еще раз, махнул рукой.
— Ладно, заходите оба.
Хозяйка подала на стол жареную картошку со свининой, соленые грибы, огурцы и холодец своего изготовления. Обозрев стол, Счастливчик в восторге поднял руки.
— Под такую закуску, Уленька, грешно не выпить!
Уленька показала ему кулак. Басов стал без интереса тыкать вилкой в тарелку, я вообще ни к чему не притронулся — после освобождения неожиданно потерял аппетит — и Рыдалов уплетал за троих.
— Меня Феликсу Эдмундовичу рекомендовал сам Лев Давидович Троцкий, — ни к кому не обращаясь, начал он, — мы с ним знакомы еще с эмиграции. Интеллигентный человек.