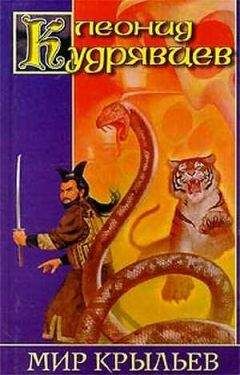В искусстве бессознательное становится сознательным. Иногда оно проходит через стадию гротеска.
Гротеск таил в себе восстание.
Один из первых теоретиков гротеска, Виктор Гюго создавал гротесковые романы, среди них «Собор Парижской богоматери».
Вот как понял этот роман один из величайших гениев человечества.
В журнале «Время» 1862 года в сентябрьском номере Ф. Достоевский напечатал предисловие к «Собору Парижской богоматери» В. Гюго.
Достоевский считал, что в романе содержится формула всего искусства XIX века: «...формула ее – восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков. Эта мысль – оправдание униженных и всеми отринутых парий общества».
Достоевский считает, что в искусстве не надо искать аллегорий, но резюмирует: «Но кому не придет в голову, что Квазимодо есть олицетворение пригнетенного и презираемого средневекового народа французского, глухого и обезображенного, одаренного только страшной физической силой, но в котором просыпается, наконец, любовь и жажда справедливости, а вместе с ними и сознание своей правды и еще непочатых, бесконечных сил своих»[136] .
Квазимодо, оседлавший колокол; Квазимодо, становящийся как бы голосом колокола, взывает голосом истории, но он не знает друзей и врагов и губит людей, которые хотели спасти Эсмеральду. Погибая, он мстит священнику-предателю и умирает у трупа Эсмеральды.
Виктор Гюго создал теорию гротеска и сам ввел в свое искусство гротеск. Он был услышан Достоевским, развернут, обогащен потому, что гротеск Гюго соединял низкое и высокое – он историчен.
Гюго определил как центр художественного открытия, совершенного Рабле, – чрево, утробу. Он написал: «...мир, который Данте низверг в ад, Рабле поместил в бочку»[137] .
Виктор Гюго в книге о Шекспире говорит, что каждый гений имеет «свое изобретение». В перечислении гениев Виктор Гюго ставит рядом Рабле, Сервантеса и Шекспира. Это не только хронологично, но и исторически правильно. В гротескности Рабле Виктор Гюго видит спор с обычным восприятием.
Данте провел себя через ад, освещая историю своего времени. Рабле заключил, «поместил мир в бочку».
В метафоре одна вещь сравнивается с другой, но не заключается в ней, как в тюрьме, не замещает ее.
Метафора поворачивает познание предмета так, как кочегар переворачивает уголь кочергой в котле.
«Бочка» Рабле метафорична; она противопоставлена церкви, восстанавливая человека как тело, но не вырубая его из истории.
Характеры, схемы построения, повторяясь, изменяются и в себе самих обновляют противоречия. Сам карнавал противоречив и потому пользуется масками: человек замаскирован, он полуузнан, он и тот человек, которого вы знаете, и не тот.
В японском празднике масок участвовали обезьяны; на обезьяне маска, она изображает неизмененным лицо обезьяны, но она, маска, – это не просто обезьяна, а маскированная обезьяна, этим она введена в искусство.
Первыми подмостками античной комедии была, вероятно, телега-платформа, это уже выделяло костюмированного исполнителя из толпы зрителей, которые могли быть тоже костюмированными. Но подмостки давали возможность сыграть, выключиться, оторваться от обычного, чтобы его увидали.
Театральная иллюзия мерцает, она то появляется, то исчезает, создавая в искусстве новое видение обычного.
«Телесность» Аристофана, Рабле, Шекспира – это не сопоставление «низа» с «верхом», «переда» с «задом». Это метод обновления видения и расширение многократности понимания. Она дает элементы сдвига и у Аристофана, и у Сервантеса, и у Рабле.
Великое – телесно. Телесна Венера. Гомер на пирах, может быть, ел, как Санчо.
Аристофан не менее откровенен, не более цензурен, чем Рабле. Женщины комедии «Лисистрата» отказываются быть женами своих мужей. Тема развита с фаллической откровенностью; развернута в ряде эротических сцен. Но женщины бастуют потому, что они добиваются мира.
Комедии Аристофана и роман Рабле, так же как роман Сервантеса, – это предложение перестроить мир; предложение это облечено в «смеховое» облачение, в вывороченную шубу, старое может умереть и в смешном.
Анализ комедий Аристофана мог бы найти место в работе о Рабле. Комедии сохранили связь с земледельческими праздниками, душа этих комедий – сдвиг, перестановка, преодолевание обычного. Женщины спорят не только с мужьями – они спорят с драматургом Еврипидом, считая, что он их неправильно изобразил.
Комедии Аристофана полны политическими спорами и эротическим своеволием. Комедии включают в себя философские споры и дают первые образцы новой литературной критики.
Изменяя путь искусства, Гоголь в России вспомнил Аристофана.
Автор в «Театральном разъезде» после представления новой комедии подслушивает в толпе, спускающейся по лестнице, как один из любителей искусства решает: «Я говорю на счет того, что в пиесе точно нет завязки».
Ему возражает «второй»: «Да, если принимать завязку, как ее обыкновенно принимают, то есть в смысле любовной интриги, так ее точно нет». После нескольких реплик «первый» возражает: «Но это выходит уже придавать комедии какое-то значение более всеобщее». «Второй»: «Да разве не есть это ее прямое и настоящее значение? В самом начале комедия была общественным, народным созданием. По крайней мере, такою показал ее сам отец ее, Аристофан. После уже она вошла в узкое ущелье частной завязки, внесла любовный ход, одну и ту же непременную завязку»[138] .
Не надо обуживать веселость Рабле, и географическую широту романа, и время борьбы смеха с косностью.
Гротеск живет рядом с утопией.
Нельзя себе представить и карнавал как праздник чистой физиологии. Во время карнавала изменялись социальные отношения: рабы становились равными своим хозяевам, существовала свобода слова.
У Аристофана в «Лягушках» спор о судьбе искусства становится спором о судьбе Афин, не переставая быть анализом творчества драматургов.
В потоке ступенчатых противопоставлений романа Рабле главное противопоставление состоит в том, что Пантагрюэль – великий изобретатель, полководец и представитель новой нравственности. Человек, по мнению Рабле, по природе добродетелен, если только не считать добродетелью церковные предписания; пороки возникают как извращение склонности.
Панург называет это общество царством Сатурна, то есть Золотым веком. Он помнит о празднике римских рабов, продолжавшемся неделю, и его обряды, выражающие мысль об освобождении. Путь вперед у Рабле, Сервантеса и Достоевского не одинаков, но однонаправлен.
Сочетание серьезного со «смеховым» М. Бахтин рассматривает как специальный жанр. Для жанра этого он создал название «мениппеи». Сатиры Мениппа не сохранились. Мы даже точно не знаем, когда жил этот писатель. Есть предание, что он был философом цинической школы, рабом, потом освобожденным. Говорят, что он занимался ростовщичеством.
Заметки о его сатирах остались в работах Марка Теренция Варрона, писавшего во втором веке до нашей эры. От него мы знаем, что в произведениях Мениппа стихи были смешаны с прозой.
У Лукиана есть диалог «Менипп, или Путешествие в подземное царство». По преданию, в подземном царстве побывал Геркулес – знаменитый герой, атрибутами которого были дубина и львиная шкура, наброшенная на плечи.
Менипп в начале диалога появляется в таком одеянии: он в хитоне, колпаке, у него лира, а на плечах львиная шкура. Вероятно, этот наряд является точным воспроизведением театрального наряда Диониса, который в первой сцене комедии Аристофана «Лягушки» является у дверей ада в таком костюме. Прибавим, что слуга его едет за богом верхом на осле.
Очевидно, то, что знает Лукиан о Мениппе, восходит к Аристофану. Менипп как бы присутствовал в «Аиде» при споре Эсхила с Еврипидом, костюм его – костюм Диониса – судьи драматургов в комедии Аристофана.
Менипп у Лукиана циник, скептически ко всему относящийся. Иногда определяют «Сатирикон» Петрония как вещь «мениппейского» жанра.
Зимой в 1593 году имя Мениппа внезапно было использовано в борьбе ученых юристов и филологов с католической лигой. Юрисконсульты, члены парламента, каноники вспомнили «Saturae Menippeae» Марка Варрона и создали свое произведение. К. Маркс пишет о нем:
«Мениппейская сатира о действии испанского снадобья и о заседании парижских штатов» («Satyre Menipp?e de la vertu du Catholicon d'Espagne et de la tenue des Etats de Paris») – забавный рассказ о созванном в Париже собрании штатов в 1593, которое хотело вместо Генриха IV избрать королем племянника генерального наместника Майена, молодого герцога де Гиза. Она в высшей степени помогла Генриху IV; она была названа мениппейской по имени философа-циника Мениппа. Замысел [ее] принадлежал Пьеру Ле Руа (руанскому канонику и раздатчику милостыни кардинала де Бурбона); им были написаны три первые и самые слабые части: Католикон (т. е. испанские деньги), Таписсерия {где иронически описано убранство зала заседания} лиги и ее процессия в Париже. Главная часть произведения возникла, когда Пьер Питу вместе с Гильо, Пассера, Рапеном и Флораном Кретъеном выполнили замысел Ле Руа. Эти друзья зимой 1593 совместно разработали это произведение, в котором высмеивались прения собрания сословных представителей лигеров. Наибольшее количество стихов принадлежит Пассера. Ему принадлежит также четверостишие, объясняющее герб лиги, состоящий из двойного креста.