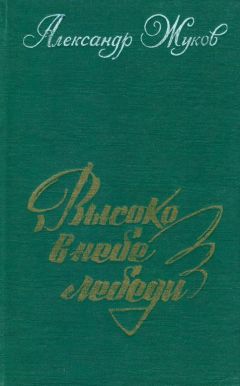Неподалеку от колонки, под полыхающими кленами, затаилась темно-серая машина с металлическим кузовом, как у мусоровоза; только сбоку у нее иллюминатором зияла небольшая овальная дверца.
Выплюнув недокуренную сигарету, мужчина ищуще скользнул глазами по кустам, безошибочно определил нужное место, стволом отвел ветки — из кустов вылетел плачущий вой, сорвался от страха и стал тонким, исступленным, — короткий щелчок выстрела оборвал его.
— Боже мой, да это же — собачники! — панически вскрикнула Жанна; «дипломатка» вывалилась из ее рук; в ужасе закрыв лицо руками, Жанна опрометью кинулась вверх по улице;
споткнулась о проволоку невидимо змеившуюся по
дороге
упала в колдобину зарывшись лицом в помои
которые целое лето
украдкой выплескивали жители окрестных домов на
дорогу
вскочила, задыхаясь от смердящего липкого запаха
и не чувствуя боли в коленке
наискосок рассеченной бутылочным стеклом
побежала
нелепо размахивая руками,
задыхаясь от брызнувших слез
смешиваясь с вонючей грязью
они черными каплями
срывались на стерильно
белый воротничок
похожий на два склеенных
лепестка ромашки
Девочки кинулись за ней. Мальчики словно примерзли к земле; происходящее было столь откровенно жестоко, что в него не верилось; казалось, это — мираж; стоит приглядеться внимательнее — и все исчезнет, растворится в золотистом осеннем воздухе.
Неспешный, основательный, мужчина действовал с ужасающей обыденностью, и от каждого его движения, каждого шага мальчишки, словно уже соединившиеся с ним невидимыми проводами, наэлектризовывались все больше и больше. Он взял прислоненные к чугунной колонке огромные щипцы с деревянными ручками, отполированными ладонями почти до блеска,
покопался ими в кустах и за шею
вытащил желтоватую дворняжку
слегка тряхнул ее
по безвольным колебаниям тела понял
мертва
достал из кармана весело зеленевшей телогрейки
серую брезентовую рукавицу
большим пальцем как-то совсем по-детски
потер кончик носа
натянул рукавицу и перехватил собачонку за задние
ноги
в его движениях не было суетливости
с тем непоказным удовлетворением
с каким бывалые охотники
демонстрируют свои трофеи
понес дворняжку к машине
и казалось было слышно
как ее безвольно болтающаяся голова глухо
стукается о сухие комья земли
поленья
обломки досок
оставляя на них бугристые
дымящиеся капельки крови
на красных листьях они были незаметны
а на желтых капли промокали
разползались в причудливые
лохматые кляксы
и было непонятно
то ли они упали сверху
то ли кровь сочится
из трещин в земле…
Саша смотрел то на мужчину, обегая взглядом дворняжку, то вниз по улице; в дальней своей части она выходила на широкий новый проспект, и там, в голубой дымке, бесшумно скользили троллейбусы, почти непрерывным потоком шли прохожие и наверняка вели на тонких ремешках холеных догов, мрачных боксеров, несли на руках кудрявых болонок… И все это совершалось рядом, и в разгоряченном воображении Саши то существовало порознь, не смешиваясь, как масло и вода, то непонятным образом соединялось. «Вся жизнь такая! Все они — такие!..» — с пылким юношеским максимализмом обобщал он и тут же кидался в другую крайность: «Выродок! Дерьмо!..», с яростным отвращением смотрел на мужчину.
Вдруг Саша увидел на его колене круглую аккуратную заплатку. «Жена, жена зашивала?» Невероятность догадки поразила его; казалось нереальным, противоестественным, что у этого мужчины есть жена, дети; он должен был жить изгоем, где-то на задворках… «Нет-нет, это в армии его научили так зашивать…» — пытаясь обмануть себя, поспешно подумал Саша, с трудом отрывая глаза от круглой, словно циркулем обведенной заплатки.
Слегка размахнувшись, мужчина швырнул убитую
дворняжку в овальную дверцу
видимо ему не понравилось
как она легла там
в сумрачном кузове
и он что-то поправил
до синевы выбритое лицо его, наверное, источало густой аромат дешевого одеколона, дышало силой и здоровьем, но было лишено каких-либо западающих в память примет; оно было слегка озабоченным, а может, уставшим — все-таки уже середина дня; мужчина с утра набегался по замысловатым зигзагам старых улочек и теперь думал о плотном обеде и о кружке ледяного, чуть горчащего пива.
— Судьба Батова и Никишина сейчас во многом зависит от нас. Ляля Матвеевна, вам слово. И, пожалуйста, без пространных теоретических рассуждений о воспитании. Это я не вам лично, — поправился директор, — это я ко всем и к себе тоже. Мы сейчас решаем не проблемы педагогики, а конкретные судьбы.
— На мой взгляд, всякий раз, когда мы действительно решаем чью-то судьбу, мы решаем проблемы педагогики, — сухо вставила Анна Денисовна.
Директор не ответил на выпад — это выбило бы разговор из колеи. Он ожидающе смотрел на Лялю Матвеевну, сидевшую на самом краешке стула, словно готовую в любое мгновение сорваться и улететь; с ее щек еще не сошли красные пятна смущения и растерянности.
— У Никишина — трудная семья, — она совсем по-девчоночьи облизнула пересохшие губы, — вернее, ее нет. Отец постоянно пьет. Мать неделями не бывает дома, пропадает неизвестно где и с кем. Толя ходит в няньках. Его сестренка учится во втором классе. Я несколько раз пыталась побывать у них дома. Толя меня в квартиру не пустил. Естественно, наговорил кучу дерзостей… Он стесняется своих родителей, своей бедности. Этим многое объясняется в его поведении. — Ляля Матвеевна по лицам учителей поняла, что ничего нового для них не открыла, но это не остудило ее. — Батов — очень чувствительный мальчик. Любит стихи, музыку и боится девочек. Стыдится этого, но ничего поделать с собой не может. То, что случилось, я, к сожалению, никак объяснить не могу.
— Отказываетесь верить? — Василий Петрович посмотрел на учительницу немецкого, надеясь услышать что-нибудь, на его взгляд, более существенное, и не дождался. — У меня было похожее настроение. Столько лет работаю в школе и все никак не привыкну… Но позвонил в милицию. Там уже есть следователь, который занимается э т и м д е л о м. Правда, его я не застал, но скоро придется с ним свидеться. И тут, Ляля Матвеевна, ваша позиция не совсем понятна. Вы утверждаете, что они оба чувствительны и человеколюбивы…
— Извините, но почему вы утверждаете, что этого у них нет? — подала голос Зоя Сергеевна, учительница биологии; почти круглые глаза и кокетливая родинка над верхней губой придавали ее лицу выражение постоянного удивления. — Никишин ведет себя на моих уроках далеко не идеально. Однажды он заявился за пять минут до звонка. Объяснять ничего не стал, а ребята сказали, что он поймал на улице подбитого голубя и отнес домой.
— Зоя Сергеевна, добрейшая вы наша душа! — В голосе директора прозвучала улыбка. — Если мы упомянем об этом в характеристике, нас засмеют. Представляете, мы оправдываем человека, ударившего другого по лицу, тем, что он когда-то пожалел птичку!
— Совершенно с вами согласен, — поднялся Арнольд Борисович, он всегда вставал, когда говорил. — Вот Батов, правда, из-за птичек не опаздывал на уроки. Но любит, как тут говорилось, стихи там, музыку. Тихий. Скромный. До сегодняшнего дня его хорошая учеба и незаметность были для нас стопроцентной гарантией человеческих качеств. И вот выяснилось, что мы Батова совсем не знаем. А с Никишиным перенянчились. Для нас это — хороший и своевременный урок!
— Будь Никишин безнадежен, стали бы с ним возиться! — с ходу возразила Анна Денисовна. — Пошел бы в вечернюю школу, на завод. Мне совершенно непонятно: почему только сейчас, а не раньше, некоторые из нас стали столь категоричными?
— Ничего удивительного, раньше мы так это, либерально прикрывали глаза, а происшедшее заставило нас раскрыть их пошире, — сказала учительница литературы.
— Говорят, что глаза особенно велики бывают от страха, — краешками длинных узких губ улыбнулась Анна Денисовна и неожиданно рассердилась: — Мы уже и Батова ставим под сомнение, а надо прямо сказать, что выходки Никишина, да и многих других частенько провоцируются нашим поведением, нашим отношением к жизни!