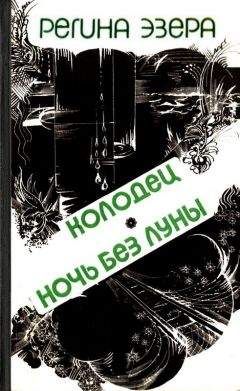Кристина. Так это я сказала, трепло поганое? Ты, ты сам это и сказал.
Теодор. Не встревай, чего квохчешь!
Кристина. Ага, он будет напраслину на тебя возводить, а ты слушай, жена, разинув рот! Ты тогда еще у Римейки молотил, как сейчас помню. Пили самогон, домой пришел косой, ноги не держат. Потом с похмелья голова трещала. Правду я говорю или нет?
Теодор. Так не в том же дело.
Кристина. Как это не в том!
Теодор. Ну, рассказывай сама, если ты такая умная.
Кристина. И трогать я его не трогала, и знать я ничего не знаю.
Теодор. Встревать в разговор — это ты знаешь.
Эмилия. Дай ты ему досказать, Кристина.
Кристина. Кто ему не дает, кто ему рот затыкает?
Язеп. А дальше-то что?
Теодор. Ну, когда Кристина застонала — голова, мол, у ней болит, выхожу я, стало быть, в предбанник, беру его за шкирку, махонький такой воробушек, месяца два ему только было… беру я его, отворяю дверь и — за порог. Слышу: ай-ай-ай! Выбегаю, как говорится, в чем мать родила, а на дворе хоть глаз выколи. Слышу только — что-то хрустнуло, что-то хряснуло. Так и пропал щеночек. Сам, можно сказать, своими руками кинул волку в пасть. Кристина после говорит: чуял он смерть, оттого и скулил.
Кристина. За что ни хватись, все я виновата, и так всю жизнь.
Язеп (смеется). Волка он чуял, а не смерть.
Кристина. Будет тебе, Язеп, про смерть говорить. (Оглядывается на венок.)
Эмилия. Бойся не бойся, Кристина, все равно она придет. (Вздыхает.)
Кристина. Кто придет?
Язеп. Она самая, мамаша, вышеупомянутая.
Кристина. Ты перестанешь, греховодник! (Пауза.) Как Либерт застрелился, так я и смотреть не могу…
Язеп. Кем же он вам доводился, Либерт, что вы так переживаете, мамаша?
Кристина (возмущенная). Да кем он мне может доводиться, этот бандит!.. А уж страху я приняла, спасибо что была валерьянка. Облюбовал он Калмы, а у нас Юрка в Красной Армии. Явился бы Либерт ночью со своей бандой… (Пауза.) Так мы бы с Теодором сегодня тут не сидели!
Теодор. Так бы я и дался, чтоб меня подстрелили как зайца.
Кристина. А с чем бы ты на них — с фигой?
Теодор. Оно, конечно, говорят — лиса близко от своей норы не гадит, да поди узнай, как бы оно обернулось… Либерт жил у двоюродного брата под клетью, от нас — всего ничего. Из окна в кухне нам видать крышу Калмовой клети. Да разве тогда кто бы подумал? Кристина еще, бывало, трусит — времена, дескать, неспокойные, как бы нас из-за Юрки не стукнули. То говорят да это говорят. Я еще успокаиваю: пускай те боятся, кто на лесной опушке живет да по болотам, а нам чего — кругом люди, до Калмов рукой подать. А Калмы-то — вон чего оказалось! Я как-то ночью вышел по нужде, слышу — батюшки мои! — в той стороне собаки лают, двери скрипят, гомон. Я уж хотел идти посмотреть. Кристина не пустила, вцепилась в меня, кричит: «Вдовой меня хочешь оставить?».
Кристина. Ну, прямо уж… так и кричала…
Пауза.
Теодор. Люди говорят, может, Либерта и не нашли бы, хитро они под клетью там окопались, а он-то, как услыхал, что ходят уж прямо над головой, так — паф!..
Язеп. Нервы.
Теодор. А что ему оставалось? На что ему было надеяться?
Пауза.
Кристина. И по сегодняшний день в Калмах призрак ходит. Каждую ночь… И смеяться нечего!.. Каждую ночь, когда полная луна. Мария своими глазами видала. Караулила, как бы свинья не заспала поросенка, и когда ворочалась из клети, глядь — ходит мужик, увернутый в простынь, ноги длинные…
Язеп. А волосатые?
Все за исключением Кристины смеются.
Кристина. Ну и молодежь нынче пошла, им только зубы скалить… (Пауза.) Которые не своей смертью померли, те призраками так и бродят. Кто честно живет, тот на себя руки не наложит!
Эмилия. Не говори, Кристина! В жизни всяко бывает. Навалится беда как камень, человек себя не помнит. Сам уже не понимает, что и делает. Если рядом не найдется, кто его удержит, пропадет ни за что… (Пауза.) Расскажу я вам, как было дело с Эрной, когда мы еще с ней на пару в Сподришах коров доили. Поздняя такая, тяжелая выдалась весна, не помню теперь уж точно, в каком году, не то в пятьдесят пятом, не то в шестом. На дворе уже апрель, а снег сошел только плешинами на буграх с южной стороны. Мы там пасли свою лошадь, Журкой звали. Пускаем ее утром, не привязанную, не спутанную. Походит она себе, где оттаяло, пожует прошлогоднюю траву, так и перебьется до летних кормов. Умная была животина: сама придет, не какая-нибудь гулена. Ну а коров на эти плешины не выгонишь. Кормовой свеклы нету, сена нету, солома — и та кончилась. Хоть караул кричи. Рвали мы вереск, рубили хвою, оголодали не хуже нашей Журки, кожа да кости. Ждали травы, как… В жизни своей ничего я, наверно, так не ждала, как травы в ту весну. И коровы стали сдавать. Одна подохла, потом еще одна. Пришли из конторы, составили акт и увезли. Эрна поплакала и успокоилась. А что с ней дело-то неладно, мне и невдомек. (Пауза.) Назавтра утром она в хлев уходит первая. Немного погодя слышу: в сенях будто кто скребется. Эрнины дети в школе. Кто там может скрестись, думаю. Если вор — там взять нечего, и опять мне в голову не стукнуло, иду себе, и раз — в темноте на кого-то налетела. Эрна! «Хоть бы лампу засветила, чего ты в потемках!..» — это я ей. А она ни словечка. Отворяю дверь на кухню, чтоб впустить хоть маленько света. Гляжу: в руках у Эрны вожжи, стоит — перебирает, головы не поднимая. «Ты ехать куда собралась?» — спрашиваю. А она опять не отвечает, знай перебирает негнущимися пальцами. Толкаю ее в бок: «Не слышишь, что ли?» Тут Эрна глянула на меня такими… страшными глазами, как слепая — и тихонько так говорит, совсем без голоса: «У меня еще две не встают…» Только тогда я, дура, смекнула, чего она теребила Журкины вожжи — и как закричу! От моего крику она точно проснулась: глянула на меня — глаза полны слез, но уже осмысленные, упала мне на шею — вся так и трясется. Я ей говорю: «Дети ведь у тебя, Эрна, думай о детях…»
Пауза.
Теодор. Да…
Пауза.
Кристина. Ну, она и сроду была горячая, еще сызмала. Мы с ней вместе к пастору ходили, перед первым причастием… Хозяйская дочка и с лица тоже неплохая, а выскочила за Пашкевича, за этого вшивца. Сами голые, босые, они и лесных братьев украдкой привечали — знаю только, что после войны ей орден повесили.
Эмилия. Медаль.
Кристина. Не все равно — орден или медаль. Ни накормит он тебя, ни оденет, — как вкалывала она, так и вкалывает. В колхоз записалась — опять вези на себе воз. Характер у нее такой, не знает спокою.
Эмилия. Она же умерла, Кристина…
Кристина. А я разве что плохое?.. Ты сама завела, стала кости перемывать покойнице. Пускай будет пухом земля Эрне Пашкевич, жизнь у нее нелегкая была…
Женщины разговаривают, а Теодор тем временем начинает шарить по карманам. Кристине это движение знакомо.
Кристина. Ты смотри у меня — не вздумай здесь дымить.
И Теодор с невинным видом, даже с удивлением на лице — будто про курево он и думать забыл — вынимает большой клетчатый носовой платок и громко сморкается.
Снаружи вдруг доносится пение. Барон поднимается, подходит к двери и ласково виляет черным хвостом.
Теодор. Пиладзит, что ли?
Ручка дергается, но дверь не открывается, и в ночи явственно раздается песня про пять канареек, по которой вы, читатель, догадываетесь, что Теодор Олман попал в самую точку. Язеп встает, нажимает на ручку до конца и помогает открыть дверь.
Пиладзит (входя). Мерси!
Наш знакомый, похоже, все еще не очухался, хотя по дороге у него было время просвежиться. Сдается мне, что направляясь сюда, он под покровом темноты не раз отвинчивал металлическую головку и прикладывался к бутылке рома, которая торчит у него из кармана. В обеих руках узлы, кепка сбилась на затылок, пальто кое-как застегнуто на одну пуговицу, хотя и две другие целы.
Войдя, он обводит взглядом зал, будто ищет, где ему пристроиться.
— Здрасте! Наше вам почтеньице! А, знакомые! Если меня не обманывают глаза — Олманы! Добрый вечер, хозяин, добрый вечер, хозяюшка! Снарядился я в дорогу? Угадал, хозяин! А вы оба куда путь держите? В Ригу? Не иначе как на рынок, вон оно ведерко под лавкой. Мед? Сметана? Сметанка… На проводы внука в армию? Да где ж ему столько одолеть, с собой ведь не возьмешь. Прохватит его как пить дать. Человек, хе-хе, не свинья: съест ведро и хватит… Чего ты сразу сердишься, хозяюшка? Пьяный я, говоришь? Господи, твоя воля, да разве это пьянство!.. Вот в шестидесятом году под Валмиерой, это да: выкатывает хозяин бочку, присаживаемся мы к ней. Вдвоем, значится. Пиво то ли от похорон осталось, то ли от крестин. А он знай наливает в кружки, и мы пьем до дна. За один вечер бочку усидели, и ноги заплетаются. Вот это пьянка, я понимаю! У хозяина дочь была, вековуха, лицо длинное, как пирог, а работала в лавке завмагом… Ну, сами понимаете. Когда я малевал, она приходила надо мной командовать. Одну стену пожелала чтоб в розовый, а другую в лиловый. Расписал я ей, как в ресторане, глазам глядеть больно…