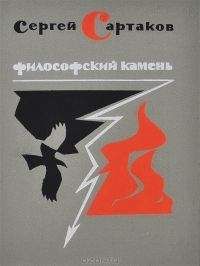Тимофею нравились эти маршировки по улицам с песней. Он был готов вышагивать по мостовой целые дни, не ощущая усталости. Рраз-раз! Рраз-раз! рубили каблуки. Красивой отмашкой летели в стороны руки.
Э-эх, при лужке, при лужке-е,
При зеленом по-оле,
Д'при знакомом табуне-е
Конь гулял по воле!..
В самих словах этих точно бы и не было ничего окрыляющего, но Тимофей пел вместе со всеми, пел и, казалось ему, взлетал ввысь — если и не на крыльях, то на этом вот резвом скакуне, гуляющем «при зеленом поле».
Ты гуляй, гуляй, мо-ой конь,
Пока не споймаю…
Рота двигалась на подъем, и от этого чуточку теснило дыхание. Тимофей набирал в легкие как можно больше воздуху. Он шел в своем ряду крайним справа и все поворачивал голову к чугунной оградке бульвара, к деревьям, стоящим за этой оградкой. Там бы пройтись! Прямо под налитыми вешним соком ветками тополей.
…Пока не спойма-аю,
А споймаю — обуздаю
Шелковой уздою…
Навстречу по светлой рельсовой дорожке бежал красный вагончик трамвая. Рота подалась немного влево, в сторону, чтобы не помешать садящимся в трамвай на остановке. Пассажиров было немного, всего несколько человек. Они сразу разместились в глубине вагона. А один, с желтым портфелем, в темной суконной толстовке и галифе, почему-то задержался на нижней ступеньке, ухватившись за поручень.
Тимофей повернул голову круче. Повернулся, стал боком к нему и этот человек. Приветственно поднял свободную руку и что-то поощрительно крикнул всей роте.
Прозвонил гонг. Трамвай тронулся. Человек отклонился немного сильнее назад.
И в глаза Тимофею вдруг ударил жгуче знакомый профиль, с горбинкой нос, знакомый поворот руки, занесенной над головой, как будто бы он собирался сейчас кого-то хлестнуть витой плетью…
— Куцеволов!..
Тимофей рванулся из строя, но его крепко ухватил за руку идущий рядом Сворень:
— Ты куда? Спятил?
Ближние ряды немного сбились с ноги, но тут же выровнялись.
Прошла всего лишь какая-то доля минуты, но момент был упущен. Трамвай, позванивая гонгом, катился уже далеко.
Тимофей больше петь не мог, шел, неровным шагом путая свой ряд. Шел и думал: «Неужели ошибся?» Сердце у него глухо стучало, все забытое сразу всколыхнулось в памяти, жестоко предстало в самых мельчайших подробностях.
Найти Куцеволова хоть под землей! Найти человека, который сейчас уехал на подножке трамвая!
Кроме этого единственного желания, у Тимофея в мыслях не было ничего. Он весь целиком словно бы вернулся в те дни, когда переступил порог своего дома, заледеневший, обрызганный кровью матери.
Сворень что-то ему говорил, Тимофей не слушал. Скорее, скорее в казармы!..
Анталов оказался у себя в кабинете. Спрашивать «по команде» разрешения обратиться к начальнику школы было не у кого и некогда. Если бы в приемной не оказалось дежурного, Тимофей открыл бы дверь в кабинет Анталова сам. Если бы дежурный доложил Анталову, вернулся и ответил Тимофею отказом, он все равно бы вошел.
Но дежурный коротко бросил ему:
— Заходи!
Анталов глядел удивленно и выжидательно.
— Товарищ начальник школы, я видел сегодня Куцеволова, — сказал Тимофей, подходя торопливо к столу.
— Кру-гом! Шагом марш! — резко скомандовал Анталов. И когда Тимофей, ошеломленный этой командой, повернувшись по уставу через левое плечо, дошел до двери, Анталов повторил: — Кру-гом!
Тимофей опять повернулся, застыл неподвижно, не зная, что ему делать.
— Почему, входя, не здороваетесь, товарищ курсант? — сухо спросил начальник школы.
Вздрагивающим голосом Тимофей отчеканил положенное приветствие. Анталов смягчился.
— Здравствуйте, Бурмакин! Докладывайте. Итак, вы видели какого-то Куцеволова. Почему я тоже должен об этом знать?
— Товарищ начальник школы, так это же…
Слушая торопливый, сбивчивый рассказ Тимофея, Анталов косил глазами вверх и вбок, словно бы что-то припоминая и сопоставляя. Руки у него, как обычно, были выброшены перед собою на стол. Пальцы слегка шевелились.
Наконец он встал, бренча ключами, открыл сейф. Тимофею показалось, что начальник школы вынул ту же папку с тесемками, что и в прошлый раз. Анталов слушал, а сам перелистывал, разглядывал бумаги.
— Вот все, товарищ начальник школы, — проговорил Тимофей, закончив свой рассказ тем, как он только что снова встретился с Куцеволовым, увидел его на подножке трамвая.
— Любопытно…
— Товарищ начальник школы, надо найти его! Схватить! Отпустите меня, пока я не найду его! Пока не схвачу его!
— Ты хорошо запомнил его?
— Хотите, я нарисую вам его профиль? Руку — как он держит ее над головой.
Прищурившись, Анталов глядел в сторону.
— Товарищ начальник школы, я все равно стану его искать! И найду…
— Д-да… Лихо! — поощрительно сказал Анталов, захлопнул папку, с расстояния кинул ее в раскрытый сейф. — Ну, что же, пиши рапорт. И рисуй…
В тихой, но упрямой борьбе с Голощековыми за свое человеческое достоинство Людмила отпраздновала — не отпраздновала, просто отметила про себя — свои семнадцать, а потом и восемнадцать лет.
Теперь Маркушка уже не дразнился, вися на заборе. Он при встречах стоял, осклабясь, и, не говоря ни слова, взглядом мерял ее вверх и вниз, вверх и вниз. Чего, мол, такой стесняться?
Теперь Матфей, поповский сын, предлагал ей прямо:
— Поженимся! За другого тебе все равно не выйти.
Он не договаривал. За него самого ни одна из худоеланских девушек не хотела идти. В церкви служились уставные заутрени, обедни и вечерни, свершались обряды крещения, венчания и похорон, по праздникам не только старики, но и молодежь заполняли ее до отказа. Горели восковые свечи, становясь, правда, все тоньше и тоньше. Курился в кадильницах ладан, изготовленный теперь из пихтовой смолы. Все шло как бы прежним своим чередом. В церковь ходили, богу молились. А к попу уважения прежнего не было. Пусть зайдет в дом на рождество или пасху, покропит углы святой водой, пусть и промочит тут же горло свое первачом-самогоном. А так, чтобы особо пожелать себе попа в гости… тем более в близкие родственники… Нет, таких уже как-то не находилось.
И Людмила каждый раз брезгливо отвечала Матфею:
— Отстань от меня!
Теперь Алеха Губанов, по-прежнему сострадая Людмиле, говорил:
— А может, тебе написать куда следует, что от отца и матери ты отказываешься, что стыдишься даже называть себя — Рещикова? Разрешат возьмешь себе другую фамилию. Все-таки…
Людмила гордо расправляла плечи:
— От мертвых мне что же отказываться? Да и от живых я ни за что не отказалась бы. Отец и мать родные — всегда отец и мать! А я — какая есть.
Алеха только беспомощно разводил руками:
— Да, ну а так что же, враждебный ты получаешься элемент. По достижении совершеннолетия всех прав лишенная.
Теперь случился у нее жестокий разговор и с Нюркой, но по фамилии уже не Флегонговской, а Губановой.
Случился этот разговор в пасхальную ночь, когда над селом малиново звонили колокола, а подвыпившие мужики, разведя близ паперти небольшой костер, набивали порохом отрезок железной трубы, бросали в костер и палили из трубы, как из пушки. Комсомольцы в эти часы устроили свое факельное шествие по селу. Набежали и еще парни, девчата. Пели песни, играла тальянка. Людмила подошла к ним. Вдруг чья-то рука зло рванула ее за плечо. Нюрка!
— Тебе здесь чо надо? Твое место — ты знаешь где? — Губы у Нюрки тряслись.
Людмилу тоже бил нервный озноб.
— А ты мне место не указывай! — крикнула она. — Мое место там, где я сама захочу быть. Что ты мне всюду дорогу пересекаешь!
— А чтобы ты мне дорогу не пересекала. Вот зачем! — Нюрка надвинулась на Людмилу, теснила ее плечом. Сыпала часто словами: — Я тебе еще и не так пересеку. Вовсе как овцу в куток загоню! И не дам выйти. Думаешь Алехой моим защититься? Думаешь, Алеха тебе на шею повесится — и свет весь перед тобой откроется? Жди! Жди! А я за тобой как по пятам ходила, так и дале буду ходить. Ненавижу! Навек ненавижу! За отца моего замученного, убитого. За Алеху — тоже. — Она с угрозой занесла руку. — И не успокоюсь, пока всю злость в селе на тебя не соберу, пока видеть тебя не перестану!
Малиново звонили в теплой ночи колокола. Отрывисто, сухо била пушка. Вдали мелькали огоньки уходящего факельного шествия. Тальянка наигрывала веселые частушечки. Парни припевали: «Не моя ли завлеканочка стоит на берегу?…»
— Слушай, Нюра, ну зачем ты так на меня? Я ведь тоже, как и ты, молодая. И с молодежью хочется мне побыть вместе. Сколько стучусь к вам? Душа этого просит. Может, тогда бы и всем бедам моим конец.