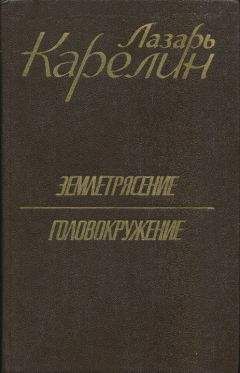Лукьян Александрович с первых же мгновений отдал своё внимание и радушие Косте. Он был приветлив и с Туменбаем, но Косте Уразов–старший чуть ли не являл свою родственность, а Туменбай был для него всего лишь соучеником дочери, и не более того.
И тотчас соответственно повела себя Ксана: все внимание она отдала Туменбаю, а Костю попросту перестала замечать.
Что ж, помня, что он ещё сегодня, ну, завтра уедет из этого города, помня, что он прощается сейчас с Ксаной, всё время помня об этом, Костя какое‑то даже утешение находил в том, как она обходится с ним. И он не ожесточался, а как бы со стороны смотрел на все происходящее. И ясно видел, как весь обширный дом Уразовых разделился сейчас на две части. Там, где находились Ксана и Туменбай, там было так, как на старинных картинах, там было высвечено, туда, неведомо откуда, падал добрый, мягкий, счастливый свет. Но туда ему было нельзя. А там, где он находился, всё время ведомый куда‑то Уразовым, там, как на тех же старинных картинах, краски были пригашены, жила неясность, было сумрачно и печально. И невозможно было выйти из этого сумрака и печали, Уразов крепко держал его под руку, водя от картины к картине, — а дом его был весь увешан картинами, в старинных, тяжёлых, позолоченных рамах. Люди на этих картинах были громоздки, жирны, они поглядывали косовато и с хитрецой. И чванились своими нарядами, золотыми цепями и перстнями, выписанными любовно, тщательно, чуть ли не с подобострастием.
Лукьян Александрович, гордясь, произносил имена художников, которые ничего не говорили Косте, а часто Лукьян Александрович и сам не знал имён творцов этих полотен, называя лишь школы, к которым, как ему думалось, они принадлежали.
— Из рубенсовской конюшни картинка, его, его ученика. Умели в те времена писать женское тело. Просвечивает, живёт. — Лукьян Александрович был рад случаю потолковать о своей коллекции. — Не малых денег мне стоила эта толстуха, скажу тебе, Костя. Не жаль. На картины не жаль. Да они и не дешевеют, картинки-то. Напротив.
— Наилучшее помещение капитала, — бесстрастно молвил Григорий. Не понять было, поддерживает он отца или спорит с ним.
Лукьян Александрович решил, что спорит. Похоже, давний это был спор.
— Да, помещение капитала! — сразу же осерчал он на сына. — Если не видишь в этом искусства, то разгляди хоть деньги. Не тряпки, не побрякушки, а ценности, и даже потвёрже, чем твоя валюта.
— Согласен, не спорю, — миролюбиво заметил сын. — Да только мне бы живых деньжат…
— Погоди, все твоим будет! Устроишь аукцион! — Лукьян Александрович рассердился не на шутку. Да и Григорий, хоть и пытался сохранять миролюбие, упрямо наклонил голову. Давний, давний возник у них спор. Но не при гостях же его продолжать…
— Смотри‑ка, Костя, какие плоды, какие утки, какова снедь да посуда! — Уразов повлёк Костю дальше вдоль стен. — Все собираюсь в столицу свезть эти натюрморты, к специалистам. Хочу дознаться, не великих ли мастеров под своей крышей держу.
— Так ведь вы же сами художник, — сказал Костя.
— Скульптор. Да, я, конечно, вижу, угадываю кисть, но кто тут кто — про это и не всякий искусствовед скажет. Потому‑то художнички во всём мире на подделках и наживаются. Картина и подписана, а не верь глазам своим. Иное же полотно безымянно, а оно‑то — бесценный клад.
— Совсем как в спортлото, — сказал сын. — Игра втёмную.
— Болтай!
— А где же эти картины берутся? — спросил Костя. — У вас тут прямо музей.
— Музеи так и возникают. Картина к картине — вот и собрание. — Уразов оглянулся, шутя будто погрозил мясистым пальцем сыну. — Смотри, сын, возьму да и откажу все местному музею.
— А не жаль будет? — спросил Григорий.
— В том‑то и дело, что жаль. А надо бы. — Уразов снова занялся Костей.'— Вот эту женскую головку итальянской школы я совсем в глухом углу нашёл, в районном у нас тут городке, у одной дряхлой старушки. Как уж эта картинка залетела в наши горы — этого и старушка не знала. Или забыла, может быть. Все твердила: «Память, память!» За «память» пришлось лишнего переплатить. Школа‑то угадывается, но мастерства не видно.
— А вдруг это и есть тот клад бесценный, — сказал Григорий.
— Заветные те шесть цифр! — насмешливо подхватил отец. — Нет, Гришенька, в спортлото я не играю. Для ленивых мозгов игра. А вот здесь у меня, Костя, два полотна Айвазовского. — Уразов ввёл Костю в просторную комнату с большим, в полстены, окном, за которым близко встали снежные вершины.
Если бы Уразов не предупредил Костю, что собирается показывать ему Айвазовского, то Костя принял бы эти горы в окне за картину. Удивительна и прекрасна была эта картина. Не надо было быть специалистом, ценителем, чтобы понять это, чтобы вздрогнуть от радостного изумления перед этим окном в небо и горы.
— Повесил в самой светлой в доме комнате, — сказал Уразов. — Нарочно такое окно заказал во всю стену. Люблю Айвазовского. Старомоден, говорят, монотонен, толкуют. Я это все мимо ушей. Люблю!
Наконец Костя увидел два больших полотна на противоположной окну стене. Уж как старалось солнце для этих полотен! Да и художник был прилежен, выписывая свои волны, гребни, гребешки и брызги морские. Пожалуй, картины были и не так уж плохи. Но не повезло им, их затмили эти снежные горы в окне, строгие, неприступные и словно бы близкие. Костя знал теперь, что до них далеко. А они были рядом, опять рядом. И верилось, что они рядом, хотя помнилось, что это не так. Не повезло Айвазовскому.
— Мне эта картина больше нравится, — сказал Костя, кивнув на окно.
— Эх, милый! Так то природа. — Уразов задумался. —Пожалуй, а ведь, пожалуй, полотна не на месте. Костя, а ведь ты прав. Молодец, ну, молодец! Как думаешь, натюрмортам здесь не лучше будет? — Лукьян Александрович советовался с Костей, всерьёз советовался и даже пояснил почему: — Свежий глаз может иногда так подсказать, как никакой специалист не сумеет. Что скажешь, Костя? Как порешишь, так и сделаю.
Костя ещё раз глянул в окно. В комнате было душно, только форточка была приоткрыта. Там же, за окном, в лёгком, угретом воздухе зеленели, розовели, искрились виноградные гроздья. Если распахнуть окно, до них можно было бы дотронуться рукой. За стеклом же они были как на картине. Пожалуй, итальянской как раз школы. Тёплый, розовый виноград, живое небо, близкие и далёкие горы. И опять эта картина, сотворённая природой, оказалась победительно лучше, чем натюрморты из уразовской коллекции.
Лукьян Александрович проследил, на что смотрит Костя, и все понял:
— Согласен, эта комната не для картин. Даже и для хороших. Окно подводит. Уж очень завидный в оконце этом вписан мир. Вицоват. — Уразов уважительно разглядывал Костю. — Смотри‑ка, ткнул носом. Тем только могу оправдаться, что зимой все затевал. Зимой в это окно даже и горы не часто заглядывают. То туман, то дождичек. Решено, отдам эту комнату своим вазам. 51 ещё вазы, Костя, собираю. Малахит, яшма. Пойдём, покажу.
Они вернулись в комнату, где были Ксана и Туменбай. О чём‑то они разговаривали. Разговор был серьёзен, они не улыбались. Ксана просила о чём‑то, Туменбай не соглашался. Попросила бы так она Костю, так вот, сведя ладони, Костя не сумел бы отказать. Все бы сделал. А Туменбай не соглашался, он терпеливо слушал, опустив руки, и не соглашался. Его несогласие жило в упрямом наклоне головы, в окаменелой твёрдости сухих плеч.
Увидев отца, Ксана умолкла, быстро заведя просящие руки за спину. Как девочка, которая что‑то прячет от родительских строгих глаз. И Туменбай хоть и помедленнее, но тоже распрямился, разжал плечи. Пожалуй, только Костя успел заметить этот трудный разговор. Приметлив был он сейчас, все замечал. Ведь он прощался.
— А не приступить ли к обеду… — сказал Григорий. — Жрать хочется.
— Мой брат счастливейший из смертных, — сказала Ксана. — Он всегда знает, что ему хочется. А ты, Туменбай?
— Иногда знаю.
— Сейчас знаешь?
Их трудный разговор возобновился, но теперь он шёл на людях и потому снова стал потаённым, как там, в машине.
— Знаю, — сказал Туменбай и потянулся глазами к двери.
— Только‑то? — Ксана, жалеючи Туменбая, покачала головой. — А как это называется?
— Ребята, перестаньте вы шептаться! — досадливо вырвалось у Григория.
— Мы говорим громко, — сказал Туменбай.
— Чуть что не кричим, — сказала Ксана. — Костя, вы нас слышите?
— Да.
— Ну вот, чего же тебе надо, мой придира–брат?
— Люблю ясность.
— Есть тебе хочется — вот и злишься. Папа, давай нарушим традицию, и ты покажешь гостям все свои сокровища после обеда. Твой наследник оголодал, а он в голоде страшен.
— Хорошо, согласен. Но с матерью‑то надо Костю познакомить. — Лукьян Александрович вдруг помрачнел, напрягся, трудно задумался, сжав в руке свою поповскую бороду. Только что был весел и всем доволен человек, картинами своими вот похвалялся, домом, — и вдруг слинял, померк, постарел. И Ксана тоже будто вздрогнула, чего‑то испугавшись. Иной заботой зажило её лицо. Потрудней была эта забота, чем та, какую подметил Костя. Даже Григорий впал в уныние, понурился. Что с ними со всеми?