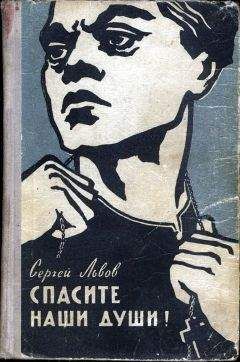Она представляет себе, что сказали бы об этом дома, в цехе, во дворе, что сказали бы Генка и Вадим, и снова начинает хохотать. Потом она трогает Павла за рукав.
— Ну, не сердись, — говорит она потому, что видит, как потемнело его лицо от обиды. — Уж очень это все странно и неожиданно. Ты ведь ничего не говорил раньше. Я думала, ты как все люди — только скрытный почему-то. Расскажи хоть, как вы там у себя (что-то мешает ей выговорить пыльное слово «в семинарии») живете.
— Опять будешь смеяться! — обиженно говорит Павел. — Я так и знал, что ты не поймешь, потому и откладывал каждый день этот разговор... Вначале думал, еще раз с тобой повидаюсь, и все... Потом стал думать: не могу я ее не видеть... Значит, надо сказать! Но я знал, не согласишься. Ну, не поймешь... Вот и молчал. Мне, думаешь, приятно от тебя таиться? У меня в Москве никого, кроме тебя, а ты меня все равно не поймешь.
— Объясни так, чтобы я поняла, — упрямо говорит Ася, — объясни. Я спросила: как вы там живете? Вопрос обыкновенный. На него каждый человек может ответить.
...Они проходят мимо кинотеатра — сеанс уже давно начался, — пережидают на перекрестке бесконечную вереницу машин, снова идут по улицам. Говорят, молчат, снова говорят. Стоят на набережной, глядят, как причаливает к пристани чистенький, только что после ремонта, речной трамвай.
— Поедем, а? — предлагает Ася. — Там и поговорим. Уж очень трамвайчик славный.
Павел соглашается. Думает, наверное, что она больше не будет допытываться. Но нет, ни на улице, ни на пароходе она не даст ему оборвать этот разговор.
...На реке еще очень холодно. Пассажиров немного. Люди в годах, поеживаясь от ветра, тут же спускаются в закрытый салон. Влюбленные пары устраиваются на кормовой палубе, соблюдая молчаливое соглашение: на скамейку, на которую села одна пара, больше никто не садится. Как только пароходик отваливает от пристани, головы девушек — черные, русые, рыжие, головы в беретиках, в платочках, в шляпках — ложатся на плечи спутников. Конечно, это всего-навсего речной трамвай, и самое далекое путешествие на нем продолжается часа полтора. Но, когда под ногами покачивается палуба, а она покачивается, когда за бортом на черной воде мигают разноцветные огни бакенов, когда навстречу дует холодный ветер, хорошо, что рядом плечо, на которое можно положить голову, и щека, к которой можно прижаться своей щекой, и теплые губы, которые ищут твои губы, и кажется это путешествие далеким, полным неожиданностей, опасностей, загадочного...
Ася и Павел сидят на последней скамейке. Это самое лучшее место: их никто не видит. Павел взял Асину руку. Ну что же, она не будет отнимать у него руки, если ему так легче говорить. Но говорить ему все равно придется, отмолчаться она ему не позволит.
Речной трамвай проплывает по вечернему городу, мимо Красной площади и кремлевских стен, мимо Парка культуры, где огромное «Колесо обозрений» уже освещено, но еще не крутится, мимо университета, мимо Лужников, под прозрачным стеклянным тоннелем нового моста метро... В небе пролетают дальние самолеты, которые идут на посадку на Внуковский аэродром, по набережной проносятся машины, спешащие куда-то из города... И пока на палубе, не замечая ничего вокруг, целуются влюбленные, Павел и Ася сидят на последней скамейке, и Павел, мучительно подбирая слова, отвечает ей на вопрос: «Как вы там у себя живете?»
Деревянные, заученные слова, тихий, неживой голос.
— Живем в семинарском общежитии на территории лавры. Утром присутствуем в храме на ранней литургии, потом вместе с наставниками совершаем общую молитву, завтракаем совместно в столовой, ну, а потом у нас шесть уроков.
— А предметы какие? — хватается Ася за привычное слово.
— Опять не поймешь. Предметы: священная история, священное писание, догматика, катехизис, литургика, гомилетика, церковная история, церковное пение. Ну, и всякое такое. Есть и светские: английский язык и Конституция.
— Значит, у вас каждый день по шесть уроков? — спрашивает Ася, оглушенная «догматикой» и «гомилетикой». — А после уроков?
— Обед. — Павел запинается и, помолчав, говорит: — Снова будешь смеяться, только я уже все рассказываю. За обедом дежурный чтец читает вслух житие того святого, чей сегодня день. После обеда с разрешения инспектора можно иногда уйти в город. Вечером все сидят в классах и учат уроки на следующий день. Очередная группа участвует в вечерней службе в церкви: кто в хоре поет, кто пономарит. Бывают и полунощные бдения. Очень устаем тогда. Но ты не думай! У нас и кружки есть: фотографический, иконописный, оркестровый. Бывают концерты самодеятельности. Раза три в неделю спевки хора семинарского. Так и живем. Кино нам иногда показывают — что-нибудь из церковной жизни. Библиотека у нас замечательная! Между прочим, лампы дневного света в ней недавно поставили.
— Понятно, — сказала Ася, хотя все было совершенно непонятно.
Речной трамвай остановился у дебаркадера. Женщина-матрос крикнула хриплым голосом:
— Эй, молодые, интересные, приехали! Конечная. А кому у нас приглянулось, покупайте билеты обратно.
Ася зябко повела плечами.
— Замерзла? — испугался Павел.
— Ничего. Посидим тут немного.
Они сели на скамейку под брезентовым навесом пристани, который страшно хлопал на ветру. Все-таки здесь было не так холодно, как на воде.
— Почему ты молчишь? — спросил Павел.
Ася не ответила. Как все было хорошо, пока она не стала его расспрашивать! Но теперь отступать нельзя.
Она посмотрела на Павла, про которого уже думала: «мой Павел», про которого уже говорила дома: «мы с Павлом». Сейчас она ему задаст еще один вопрос. Ответ ничего не изменит. Что бы он ни сказал — и «да» и «нет», — все равно это будет ужасно. В голову лезут книжные слова. Ей никогда не приходилось думать такими словами о живом человеке. Скажет: «Нет», — тогда он — как это писали в сочинениях? — двоедушный лицемер; скажет: «Да», — мракобес.
Но все равно спросить нужно.
— Слушай, Павлик, ты не сердись, но только я тебя очень прошу, ответь мне честно: ты в это веришь?
— Как ты можешь спрашивать! — вскрикнул он, взмахнул длинными руками и пошел прочь на длинных ногах, наталкиваясь на прохожих...
Ася посмотрела ему вслед. Вот и все! Она еще может его окликнуть. Но она молчит. Она еще может его догнать, четыреста метров она пробегает лучше всех в цехе. Но она не двигается с места. О чем они будут теперь говорить?
«Попадья»! «Матушка»! «Жития святого»! Какой ужас...
Она так задумалась, что не заметила, как дошла почти до самого дома. На углу между вестибюлем метро и «Гастрономом», в котором работает Марина, в нескольких шагах от тротуара за белой каменной оградой — церковь.
Каждый день, когда Ася утром идет на работу, и каждый день вечером, когда она возвращается, она проходит мимо церкви. Она видит старух в длинных черных юбках и черных платочках, которые еще издалека начинают креститься на церковь, молодых женщин с ребятишками, мужчин, реже — парней и девушек своего возраста, которые входят в церковные ворота. Она видит их и не замечает. Это ее не касается. Это ей неинтересно. Мало ли кто как сходит с ума! Но сегодня она остановилась около ограды и внимательно посмотрела на церковь. Вот, значит, где собирается работать Павел. Только, наверное, это называется не работа. А как же? Как-нибудь иначе. Это ведь не цех, не фабрика, не завод...
— А ты, милая, не раздумывай, ступай, милая, в божий храм, — услышала она.
Ася оглянулась. Рядом с ней стояла продавщица из зеленого фургона, который торговал на пустыре. Ее хорошо знали на всей улице. С утра и до вечера, широко разевая ярко накрашенный рот, она хриплым басом отругивалась от хозяек.