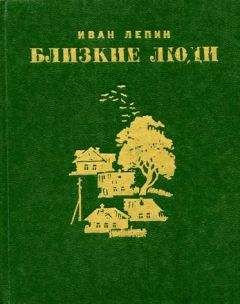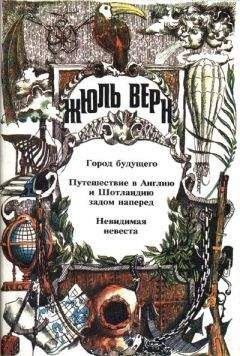И чем глубже осмысливал Митька все это, тем чаще задавал себе вопрос: «А нужен ли нам отец вообще? Он у нас ведь тоже похож на мартовского кота».
Жалея мать, Митька говорил ей иногда в лицо: «Как ты можешь терпеть его, такого? Давай прогоним — и никаких!»
Ксения скрещивала руки на отвисшем животе, спокойно отвечала: «Куда ж мы, дурачок, его прогоним? Какой-никакой, а отец он. Не из дома, а в дом несет. А что люди болтают… Можа, и зря болтают… Нихто ведь не захватывал отца у этой Таиски».
И крохотный лучик надежды на то, что разговоры про отца — напраслина, потихоньку растапливал лед в Митькиной душе. До следующего концерта отца, когда он, подвыпивший, заявился под утро домой и начинал выступать: «Вы, так-растак, моего ногтя не стоите! Вы на руках должны меня носить!.. Ксень, целуй мне сапоги, а то выгоню из дома!»
Но трезвел — и становился человеком. Умельцем: и портным, и сапожником, и плотником.
Терпеливая Ксения все прощала ему — ради семьи же.
А в мае Митька хотел отца убить.
Как вышло?
Однажды под вечер мать усходилась сажать огурцы. Принесла ведро воды на грядку, семена. Хватилась — а граблей дома нет. Железных, которыми грядки скородят. Митька на глаза попался.
— Мить, где наши грабли?
— Какие? Железные? А их тетка Варвара вчерась взяла.
— Сбегай, сынок, принеси.
Принести грабли — работа пустячная, не огород копать. Тем более, что тетка Варвара от них через три хаты жила.
И Митька, изобразив из себя необъезженного жеребчика, вскачь понесся к тетке Варваре. Застал ее сидящей на крыльце.
— Тё, вам грабли уже не нужны?
Тетка Варвара всплеснула руками.
— Грабли? Вот напасть! Их у меня утром Таиска взяла. Погоди тут, я к ней схожу.
У Митьки никакой охоты не было стоять и ожидать. И он сказал:
— Ладно, я сам сбегаю.
И поскакал к Таиске.
Промчавшись через пустой сад, Митька оказался у дверей хатенки Таиски Чукановой. Он с ходу повернул щеколду и смело вошел в сенцы, открыл скрипучую дверь в хату.
И опешил. За столом сидел военный, как две капли похожий на… его отца. Только был он без чуба (впрочем, мать, навестившая отца в Прилепах, говорила, что отец подстрижен под нуль). И в форме этот был (а мать рассказывала, что отец и другие мужики пока в своей одежде). Впрочем, могли уже и обмундировать: месяц прошел, как мать наведывалась к отцу.
Митька стоял на пороге и не мог произнести ни слова — от удивления.
А военный, утерев рот тыльной стороной ладони, возьми да усмехнись:
— Что, Митька, не узнаешь?
Отцов голос! Отец перед ним, значит! Только почему он не домой пришел, а к этой блудливой Таиске?
Кровь ударила в лице Митьке — кровь обиды и гнева. Выходит, верно говорили на деревне про отцовы похождения! Значит, справедливо мать упрекала его, хотя порой, чтоб оградить детей от нехороших слухов, и спохватывалась: «Можа, люди зря болтают…»
Митька рванулся из хаты. Отец мгновенно выскочил из-за стола и кинулся за сыном. В темных сенцах Митька не сразу нащупал щеколду, и тут отец схватил его за плечи.
— Стой!
Митька сжался, как зверек.
— Пусти!
Отец, часто дыша, расслабил пальцы. Прижал дверь ногой, чтобы Митька не сбежал.
— Слушай меня, — заговорил прерывисто отец. От него пахло самогонкой. — Слушай меня. Я тут оказался случайно. Шел огородами, ну и… зашел попить. Попил и присел на минутку. А тут и ты явился. — Родион немножко успокоился. — Слушай, сын. Ты зачем прибежал? Выследил меня? Да? — Митька молчал: «Так я и поверил: в двух шагах от дома пить захотел». — Вот что, сын, — уже ласково говорил отец, — ты молодец, что выследил, в разведчики годишься. Только — как мужик мужику: что видел здесь меня — молчок. Почему — потом объясню. И зажигалку дам — понял? Если смолчишь.
Митька попробовал открыть дверь — не получилось. Отец не отпускал ногу.
Митька вдруг заплакал. От беспомощности ли, а может, все от той же обиды.
— Примись, — попытался он оттолкнуть отца.
— Митька, — изменил отец ласковый голос на строгий, — ты меня не видел, понял? Иначе пеняй на себя.
И сам помог сыну открыть дверь.
Митька выскочил как ошпаренный и кинулся не к дому, а за огороды, к речушке, что опоясывала полукругом Карасевку. Бежал по вскопанным огородам, утопая по щиколотку в земле. Глаза застилали слезы, и он их размазывал по щекам грязными кулаками.
Потом он бежал по колхозному полю между огородами и речушкой. Поле было вспахано недавно, разрыхлено плохо, и Митька спотыкался о комья.
К речке он добрался обессиленным. Выбрал на берегу сухое местечко, сел, положил руки на колени.
Уже опускались тяжелые сумерки, становилось зябко.
Что делать? Может, нырнуть в эту холодную воду, медленно текущую в двух шагах? Отомстить отцу за измену. Он догадается, что это из-за него, из-за отца, утопился Митька. Пусть же совесть мучит его всю жизнь!
Боязно топиться, страшно: вода черная и холодная. Да и чего ради Митька умирать будет? Он, что ли, семью предал? Отец предал, отец должен и отвечать. И Митька совершит правый суд над ним! Сейчас он вернется домой и убьет отца. Да, да, убьет! Возьмет топор или молоток — что под руки попадется — и, ни слова не говоря, замахнется. Он смелый, хоть и драться не любит. И свою смелость он докажет сегодня. Сейчас…
Что — отвечать придется? Ответит — не испугается. Только ведь и оправдать могут, если он все про отца расскажет. И, в первую очередь, про то, как он застал его у Таиски.
Митька встал, высморкался и с суровым лицом побрел домой.
Пока он брел, злость помаленьку проходила. К тому же становилось жалко мать. Вдруг за убийство не оправдают, а посадят его, Митьку, в тюрьму? Как тогда она с четырьмя детьми справится? Мать хоть и ворчит на него иногда: никакой помощи-де от тебя не вижу, — а соседкам, Митьке это известно, нахваливала его: ворчун малый, вредный, да исполнительный. Но любит, чтобы его попросили. Усмехнулся: «Тут мать права, выкобениваться я мастер».
Ладно, отца он оставит в живых. И даже не разболтает про то, как сегодня прихватил его у Таиски Чукановой. Но отношение к отцу он теперь изменит — это уж как пить дать.
Домой вернулся он затемно. В хате бледно светились окна — над столом горела коптилка. Перед тем как открыть дверь, Митька остановился на несколько секунд у окна. И увидел: на конике сидит улыбающийся отец, он что-то рассказывает веселое или забавное, и вся семья с наслаждением слушает эти россказни. Только его, Митьки, нет.
Споткнувшись в сенях о лежавший под дверью топор, он медленно ввалился в хату.
Фрося услышала почти обессиленный Дашин голос:
— Тё, пить ужасно хочу.
У церковной ограды, в тени ракит и тополей, на которых возле своих расхристанных гнезд безумолчно каркали вороны, она остановилась. «Я и сама не против перехватить глоток-другой холоднячка, — подумала Фрося, — в горле пересохло». И сняла со спины уже нагревшуюся на солнце котомку, прислонила ее к ограде:
— Ставьте тут.
Вместе с Дашей она направилась в ближайшую хату — через дорогу, а Митька остался сторожить котомки.
Фрося первой ступила на низкое крыльцо, открыла дверь в сенцы.
— Есть тут кто? — спросила она темноту.
Ни звука.
Прошли в сенцы, Фрося с трудом нащупала ручку двери, что вела в хату. Ручка была прибита слишком низко.
В хате, несмотря на солнечный день, стоял полумрак: висела густая пыль, и солнечные лучи, едва пробивавшиеся сквозь нее, казались осязаемыми.
— Здравствуйте вам.
— Здоровы были.
Из полумрака возникла согнутая подковкой старуха, с веником из свежей полыни в руках, — она подметала земляной пол.
Старуха присела на лавку у стола, освободила из-под платка ухо, приготовилась слушать.
— Нам бы попить.
— Что? Попить? Да пейте — жалко, что ль, воды?
Возле печки, на шаткой табуретке, стояло цинковое, давно не чищенное ведро, накрытое квадратной дощечкой. Фрося взяла с дощечки легкую алюминиевую кружку, зачерпнула воды. Выпила два глотка, сполоснула горло и передала кружку Даше.
— Пей.
Даша зачерпнула полную кружку. Вода была теплая, но вкусная, мягче их, карасевской, что вдобавок пахнет еще и железной рудой.
Даша, не отрываясь, выпила целую кружку.
— Спасибо.
Старуха покивала головой.
— На здоровье, деточки. — Заглянула Фросе в лицо: — Далёко идете?
— В белый свет, — ответила Фрося.
— Далёко?
— В Подолянь. Слыхала?
— Слыхала, а как же? Мой покойный дед был оттудова… К своим идете?
— К своим.
— Нынче много народу в те края ходит. — И — шепотом: — Скоро, говорят, наступление начнется. — Старуха облокотилась на стол. — Скорей бы ету немчуру побили. Двух сынов моих, искариоты… — Она подняла к глазам замасленный фартук, вытерла глаза. — Под етим, под Сталинградом…