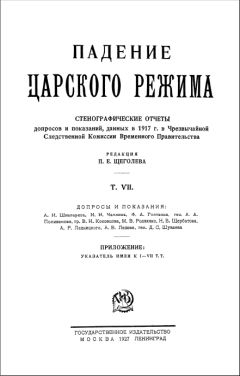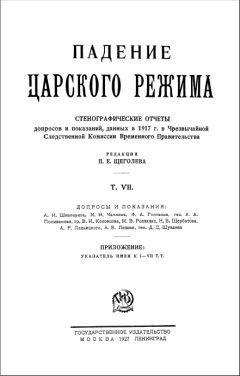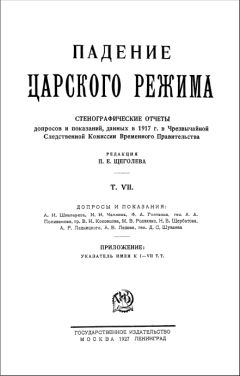Это было уже невыносимо; я вскочил с тахты, забыв о больной ноге.
— Какие похороны? — заорал я, не помня себя. — Сколько можно, в конце концов! Я уже не могу слышать про гробы и могилы! Я чокнусь скоро от этих разговоров! Почему ты не умеешь ничему радоваться? Что за похоронное настроение, мать!
— Ляг немедленно! Тебе нельзя стоять!
— Не лягу!
— Да, конечно… ты поступишь, как всегда, по-своему. Я давно для тебя не авторитет. Не имеет значения, что я всю жизнь положила на тебя. Главное — твои прихоти, твои желания, а я… меня можно не брать в расчет. Кому я нужна!
— Уу! — простонал я, точно боль пронзила.
— Уходи! Живи один, пей, шляйся где угодно, умирай под забором… мне уже все равно, — безнадежным голосом проговорила мать.
Я потерял дар речи от тоски и злости. Язык прилип к гортани. Лишь стоял и смотрел, как она поднимается со стула с гримасой на лице, как машинально оправляет седые уже волосы… седые уже… и выходит в другую комнату. Еще один наш разговор закончился — сколько их было таких и сколько еще предстоит?
Мать ушла на работу (так, по-моему, и не поела); хлопнула дверь. Я встал и, хромая, подошел к окну. Я увидел, как она вышла из подъезда и наискосок через двор, мимо детской площадки направилась к автобусной остановке.
День был жаркий; солнце в наших степных местах начинает палить уже в мае, и мать придерживалась тени высоких деревьев. Она шагала быстро, торопливо, почти бежала, боясь опоздать в свою заводскую лабораторию, и я знал, что в такие минуты она ничего не замечает: может наткнуться на пешехода, если тот не успеет уклониться, перейдет улицу на красный свет, а то и шагнет в какую-нибудь траншею… Мне вдруг стало страшно за нее — такой беззащитной и одинокой она казалась сверху.
Я снова повалился на тахту и врубил магнитофон на полную громкость. Высоцкий запел своих «Коней». Сколько раз слышал, а всегда внутри что-то переворачивается! Мне кажется, что я сам написал, сам пою, надрываюсь, иду по краю над каким-то обрывом или, может быть, скольжу по осыпи… и у нас с Тараканом чуть не дошло до мордобоя, когда он заявил (ренегат!), что есть нынче певцы посильней Владимира Семеновича и хватит уж молиться на него…
«Чуть помедленнее, кони!» — он пел, и у меня жгло глаза, как всегда, и я думал, что готов был бы пожертвовать своим сердцем для трансплантации ему… да, готов!.. и еще думал, что если уж мне суждено жить, то надо выкладываться, как он, на полную катушку, а иначе стоит ли вообще?
Потом я выключил магнитофон и со слезами на глазах заснул. Мне приснилась война — не прошлая, а новая. Взрывов никаких не было, а просто внезапно, беззвучно за окном возник огромный, слепящий огонь, и здания стали медленно оседать на моих глазах; полыхнуло жаром, и горячей волной меня вынесло в какое-то неземное измерение. Я закричал «мама!», но своего голоса тоже не слышал… зато в сознание проник сильный стук в дверь… и, весь в поту, я проснулся, кинулся, забыв о больной ноге, в прихожую.
Это была Татьяна.
— Ох, Танька! — простонал я.
Она испугалась. Видок у меня был, наверно, дикий.
— Костя! Что с тобой?
— Ничего. Поцелуй скорей, обними!
Упрашивать ее долго не надо, мою Таньку, соображает мгновенно. Она выпустила из руки «дипломат», прильнула ко мне, закрыла мне рот своими губами… минута прошла или две, и я медленно стал очухиваться, расслабляться, пока совсем не опомнился — и глубоко вздохнул, словно вынырнул с большой глубины.
Татьяна вопросительно и тревожно на меня смотрела: что случилось? Я пристыженно пробормотал: ерунда, мол, заснул и развязал во сне мировой пожар… ненавижу спать днем, всегда кончается фантасмагориями.
— Ты не заболел, Костя? У тебя, по-моему, жар. — Она прикоснулась ладонью к моему лбу.
Я вдруг схватил ее руку и заговорил со страшной нежностью — как будто даже не я, а кто-то другой вместо меня, и не моими, а чужими словами:
— Милая Танька! Что бы я делал без тебя! Спасибо тебе. — И поцеловал ее руку, как целуют руки добрых старух.
Она обомлела, застыла с открытым ртом. Ее можно понять. Я же терпеть не могу сентиментальности, всем известно, и если иной раз она очень уж расчувствуется и начнет шептать, как в бреду: «Милый… любимый… единственный…» и так далее, то для меня это настоящая пытка. А еще хуже, когда из меня вытягивают, как клещами, любовные признания. Настоящим мастером, садисткой настоящей была Шемякина. Едва мы оставались вдвоем, как она начинала ныть: «Скажи, что любишь! Ну, скажи, что любишь!» — хотя козе было ясно, что я просто убиваю время с ней. Иногда, чтобы отвязаться, я говорил: «да, да, да!», и если было темно, то корчил при этом дикие рожи, и она счастливо ахала, но через минуту опять начинала свое: «Правда, любишь? Скажи!» — и добилась наконец, что я стал избегать ее как зачумленную. Впрочем, мы все равно бы расстались, это тоже козе ясно. Ведь не я ее выбрал, а она, Шемякина, меня, едва я появился в институте — приезжий, неприкаянный новичок. А у нее душа добрая, недаром все зовут «мать Шемякина». («Мать Шемякина, дай конспект!» «Мать Шемякина, займи трояк до стипы!» Или просто: «Эй, мать! В столовку идешь?») Ну, пристала ко мне как банный лист, готова «дипломат» за мной таскать, шагу не сделаешь, чтобы не наткнуться на нее и ее завороженный взгляд. «В чем дело, мать Шемякина, в чем дело?» А в ответ влюбленный взгляд и прерывистое дыхание. Жуть просто, блин-компот!
Выходит, сначала она меня пожалела (одинокий, неприкаянный, ха-ха!), а потом я ее. Вот и все. Вот и вся любовь. Но Шемякина этого не понимает, ждет продолжения телесериала, хотя никаких обещаний не было, ясно написано «конец» и поставлена точка. Точка!
Я так и сказал Татьяне вскоре после нашего знакомства: ничего серьезного у меня с Шемякиной не было, не верь слухам. (Она ведь на другом факультете, Танька). И еще я попросил ее:
— Христом богом умоляю тебя, Танька, не требуй от меня никогда клятв и признаний! Я сам все скажу, когда захочу и если захочу. Понятно?
Она разъярилась, даже кончик носа побелел, а глаза стали злые, как у рыси.
— По-твоему, Ивакин, я способна вымаливать у тебя подачки? За кого ты меня считаешь? За вторую Шемякину?
Мы здорово тогда поссорились (то есть она распсиховалась и убежала) и неделю без одного дня не встречались и не созванивались. Я извелся за эти шесть дней, чуть не заболел, и на седьмой, проклиная себя за слабость, вечером отправился к ней в общежитие. На полдороге мы встретились, и я поразился ее худому, измученному лицу. Но виду не подал, как поражен, лишь сказал:
— Привет, Сомова! Куда направляешься?
— А тебе-то что? В магазин за хлебом.
— Интересное совпадение! Я тоже в магазин за хлебом. Ты за черным или за белым?
Она огрызается:
— За серым! (А в руках ни сумки, ни авоськи, впрочем, как и у меня).
Ладно! Заходим в магазин, как примерные покупатели. Татьяна приобретает сдобу за семь копеек, я — какую-то дурацкую черствую плюшку за три копейки, на которую смотреть-то неохота. Выходим друг за другом молча. На улице я спрашиваю:
— Ну, теперь куда? За селедкой, что ли?
Она не отвечает, лишь впилась зубами в свою сдобу и озирается вокруг, будто заблудилась и не знает, куда идти дальше, в каком направлении… Стоим, жуем — жадно, остервенело; прохожие на нас косятся: откуда, мол, такие взялись, с какого голодного мыса?
— Как вообще-то дела? — спрашиваю. — Чем занималась шесть дней и шесть ночей? Как проводила досуг?
— Очень хорошо! Прекрасно! Ходила на танцы, в кино.
— Одна или с кем-нибудь?
— С кем-нибудь!
— Молодец, Сомова! Я тоже времени даром не терял. Бар посещал. Знакомства новые завел, то-се. — И чавкаю, чавкаю.
— Рада за тебя. — А сама чуть не подавилась куском. — Ну, пока, Ивакин! У меня свидание.
— Ох, черт! У меня ведь тоже. Опаздываю!
— Пока, пока, Ивакин. И не смей приходить ко мне.
— Никогда?
— Да, никогда!
— Ладно, договорились, — выдавливаю из себя, криво усмехаясь. — Поцелуешь на прощание?
— Нет! И знай: наше знакомство — ошибка. Я все поняла окончательно… ничего у нас с тобой не выйдет.
— Сам так думаю.
— Я брошу институт и уеду домой… чтобы тебя не видеть. Вот что я сделаю!
— Билет купить?
— Без тебя куплю!
— Давай, Сомова! А я вот что сделаю: лягу под трамвай, чтобы тебя не видеть.
— Пожалуйста. Никто не заплачет.
И пошла прочь — быстро, решительно, с расправленной спиной, точно обрела вдруг какую-то высшую, сияющую цель… а я скрипнул зубами, крутнулся на каблуках и двинулся в обратном направлении. Расстояние между нами с каждым шагом увеличивалось; мы удалялись друг от друга, как, предположим, странники в пустыне, отказавшие друг другу в глотке воды. Я точно знал, что она плачет, и сам, одурев от тоски, думал: повеситься надо! на всякий случай! пусть знает!