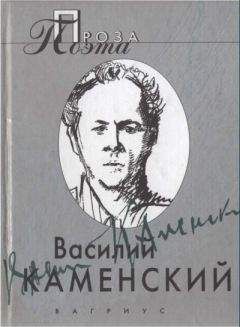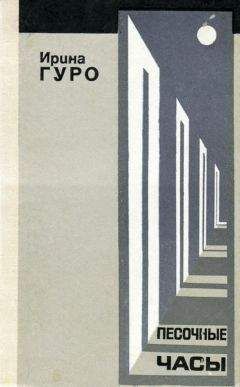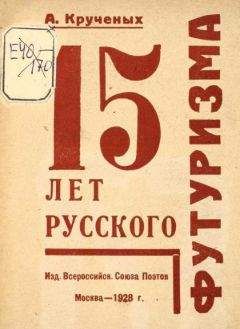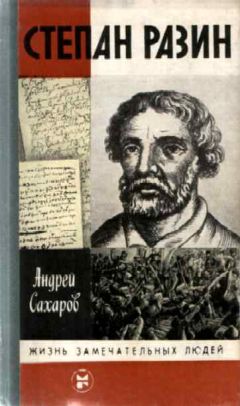Волга, Волга! Не ты ли из сердца земли исток свой берешь, не ты ли наши сердца заливаешь любовью к тебе, не ты ли творишь нас великими, вольными, затейными, не ты ли указываешь нам пути-дороженьки!
Волга, Волга! Как мать, ты рождаешь нас и грудью вскармливаешь сильных для славы океанской.
Волга, Волга! И ты, как невеста, как возлюбленная, цветешь для любви нашей молодецкой, для подвигов удальских.
Волга, Волга! Во имя твое разливное наши песни распевные, самоцветные, наши крылья-паруса лебединые, наши легкие струги быстрые, дружные с чайками да с дикими утками.
Волга, Волга! Дорога наша размашная, неизменная, ратоборная.
Во пречистое имя твое, счастье, нам водою несущее, — распластываю я судьбу затеи знатной, и ты, Волга-матушка, кормилица-поилица, не оставь советом думы мои.
Вот я бычачьим ревом реву от радостей, что ты, Волга-любовь, заодно с нами, и готов всю жизнь повторять и знать только одно слово: Волга! Волга! И это одно безмерное слово преисполняет мой разум мудровольностью неисчерпаемой.
Волга, Волга! Ты сама, мать наша ядреная, видишь, кормилица, что все мы кумачовые дети, ребята твои, сермяжники крылатые, в молодости, в разгуле своем непочатую затею несем для блага народного-крестьянского-холопского-рабьего. И ты, Волга, храни, береги нашу буйную молодость, ты, сердешная, научи нас богатырями расти, чтобы крепли победушки наши на матерой груди твоей, чтобы жизнь на песню походила, как голубь на голубя.
Славил Степан молодость, купал ее в Волге, будто коня любимого.
В молодости, как в утреннем солнце, он видел все звучальные начала, все чудесные возможности и все звенящие концы.
В молодости, как в разыгравшихся волжских волнах, он слышал кудрошумный трепет движения, слышал прибойную хлесткость о крутологие берега, слышал песнеянную перепевность вдруг родившихся нечаянных криков с горы радостей в раздоль веселых долин, плодородных здоровеннейшим смехом. И-эхх! На!
С рассветом просыпался Степан от звона радуг, бегающих босиком по небесной поляне над головой.
— Что это раскинулось радужное и до неба в бриллиантах, — кричал он со сна.
— Держись за жизнь!
— Затыкай за пояса кистени!
— Эй, ядреные лапти!
— Сарынь на кичку!
— Глаза на Волгу!
— Сучи рукава!
— Катись колесом!
— Слушай атамана!
— На коня!
— На струги!
— На весла!
— Подымай паруса!
— Лети быстрым соколом!
— Вершай! Раздайся!
Так будила молодость.
В молодости, как в разветрившемся ветре, чуял Степан стихийную, яркую волю, смысл землевращения, красотинность смены цветов и времени.
Всей своей силищей богатырской ощущал Степан мудрость молодости в том, что творил жизнь по дарованию своему великому, океанскому, глубинному, искреннему, что жил во славу славную, молодецкую, что любил жизнь вольную от огня сердца своего, раскаленного кумачовыми днями да удальцами разудалыми, верными.
И как редкое вино в минуту развернувшегося веселия, пил свою молодость, пил жадно, много, гордо, пил неотрывно, так, как пьют в последний раз, с мучительно-сладостным желанием постичь нестерпимое счастье опьянения воли.
И, как молодость, пил вино за удалые, отчаянные сердца, чокаясь заздравной чаркой с волжской раздольной стороной, с бездорожными дорогами.
Все заветное обещал молодости и ей верил, ей отдал себя с головой.
Из молодости, будто из неисчерпаемого источника хрустальных чудес, неустанно черпал он свои крыловейные, жгучие, звонкие песни и когда пел — преображался в солнцезвучальный праздник, собирая и радуя всех около и себя.
Когда пел, сам первый пьянел от красоты своей песни и упивался своим голосом, по стволу которого, как ветви, струились переливные струны гуслей.
Буйно славил Степан буйную молодость.
Взбирался с удальцами на вершины Жигулевские, протягивал сильные руки в синедальную сторону, к самарскому кургану, к червонным песчаным берегам, к зеленым прикрытным островам — и кричал всемогучей грудью:
— Эй, на, на возьми! Полымем яростным расцветай расцветно, молодая жизнь!
Бейся колоколом, сердце разгульное. Искрись алыми искрами, пенься алой пеной, кипучая кровь!
А ты, башка кудрявая, с большезоркими глазищами, крепче держись, беспокойная, затейная, на спокойных плечах!
Не то еще вынесу, не с эстоль приму на себя, не таковским еще замирюсь с судьбой!
Видно, недаром сдружились с Жигулевскими вершинами, недаром воду из Волги пьем, да кровью-вином запиваем.
Так ли, не так ли жизнь развели, как пожар лесной? А будто так! Эх, мазь-яры, и впрямь будто так, ежели сыты, обуты, одеты, да ржем жеребцами, да победы одерживаем такие разудалые, что царскому войску не под силу стали, — вот как голытьба распоясалась. Не удержишь!
— А ну-ка, удальцы братья вольные, парни чугунные, души кумачовые, — давайте-ка сюда на поляну прикатите бочоночки браги медовой — выпьем за верхний симбирский путь, за силушку нашу несокрушимую, за удачу ратную, за молодость победную.
— Распируем три денька, три ноченьки, а на заре четвертой сядем на струги свои верные, заведем песни молодецкие, да ударим в крепкий лад расписными веслами.
— Гуляй, наша вольная молодость!
— Шуми!
— Развернись в Симбирск!
Эй, качай наша, качай,
Знай раскачивай, качай.
Ухнем ухом,
Бухнем брюхом.
— Расшибем!
— Стой! Укатится!
— Не шали!
— Харым-ары.
— Поддержи!
— Балма-ла.
— Чаль! Чаль чалку!
— Готовь костры.
— Свищи. Гуди!
— Бушуй!
— Мотри!
— Рой пяткой.
— Верещи!
— Кружи!
— При!
— Напором при!
— Не застуй.
— Снаряжай струги.
— Набирай моготы!
— Ворочай!
— Заводи, чугунники!
— Запевай, кистеньщики!
— Прочищай глотки.
Эй, за весла, братцы вольные;
Эй, соколики сокольные:
Держи май —
Разливье май, —
Сами жизнь мы делаем.
Пуще, гуще
Нажимай,
Нажимай на левую.
А вот чивай, да вот чивай,
Да чаще брагой потчивай.
Будто цветы на лугах, пестрели в горах молодчики, разъяренные вольностью, обветренные ветрами удач, прокопченные солнцем веселья, уснащенные, как мачты, снастями надежд, настроенные в дружный лад, ровно гусли звончатые.
И не было числа этим буйным головушкам понизовой вольницы, как не было конца притоку с дорог сиротских.
Будто исполинские верблюды сплошным караванным стадом залегли Жигулевские горы по приютному правому берегу Волги.
Иные свои губастые головы опустили в воду и пьют не напьются.
И пусть пьют.
А на жирных, заросших густозеленью горбах вольготно удальцам понизовым прятать животы свои, да ветрам буйным кумачовую славу пускать по свету.
Ну, и лихо по ночам в горах: крики, хохот, вдруг тихо, свист, рожки, вдруг грозно, выстрелы, песни, уханье дозорных, мычание, вдруг звездно, звериная ругань, раскатные слова.
На сторожевых вершинах костры.
— Верещи шибче!
— Вой!
— Гни!
— Царапай!
— Полулешачье! Варначина!
— Ой! Ядрена масленица! Лезь!
— Выворачивай!
— Обруснет!
— Кто ползет, окаянный?
— Чш-ш-ш……свойские, разинские. Нюхаем…
Гуляют удальцы по ночам.
Многие спят на вершинах высоких сосен да елей, качаются рыжечугунные пареньки, вспоминая в снах зыбкие руки матери и свою маленькую тогда судьбу чуть-чуть.
Или иной удалец, качаясь на высоченной вершине сосновой, лежит и во все глаза смотрит на звезды.
И всю ночь его удивленная душа бродит по звездолинным дорогам, прислушиваясь к мудрому течению покоя и вздрагивая иногда от изумрудного шума падающих звезд.
Всю ночь иному удальцу нет никакого дела до всего остального, кроме звездолинных дорог.
Он не слышит. Не знает. Не чувствует. Нет, и ничего-нетно…
В странноскитаниях болтается душа на полянах раздумья, склоняясь к журчальным истокам мудрости.
А когда с востока небокрая протянутся бледные руки рассвета в синюю глубь — вернется из странствий душа.
Удалец нащупает холодный кистень, крепко сожмет дубовую рукоятку, крикнет вниз:
— Барманза-ай-й!
И заснет могучим обильным сном.
Солнцевстальные лучи и птицы разбудят молодцов. Кто умоется росной душистой травой, кто пойдет к журчью, кто спустится к Волге, — уткой ныряет.
— День прожить и то — удивленье.
— А мы — гляди — обожрались днями.
— И-эх, жизнь-малина!