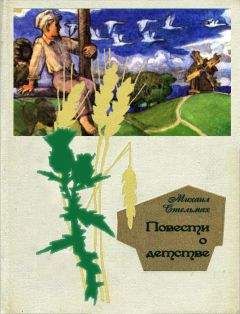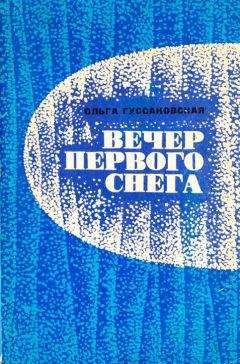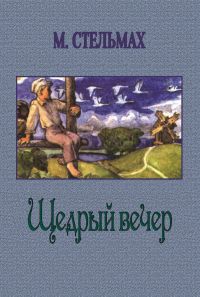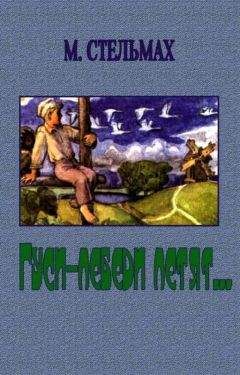Больше всех в нашем селе приходилось воевать с нечистой силой дядьке Николаю. Где он только ни ловил ее. И в дымаре, где черт встречался со своей сажей разрисованной любовницей-ведьмой, и в кладовке, где бессовестный бес лакомился салом, и в вершах, куда забирался черт на халяву жрать рыбу, и под мостиком, и в дуплистых ивах, и в колодцах, и в тех мерках-соломенниках, которыми беспятый намеряет воробьев на ужин.
И хотя нечистая сила по-всякому мудрила, как перехитрить своего врага, из этого нигде ничего не получалось. Дядька Николай всегда становился победителем. За свою жизнь он столько поотрубал у нечисти хвостов, копыт и рогов, что все это не поместилось бы и на воз.
— Если бы на этот товар нашелся покупатель, то имел бы я денег больше, чем мусора, — хвастался дядька Николай.
А его жена от такого безобразия тьфу-тьфукалась и поднимали руки к образам, а дальше сжимала на мужа кулаки…
Я не был таким храбрым, как дядя Николай, и не имел его топора, поэтому ночью дрожал и замирал над теми сказками, из которых, как из мешка, сыпалась разная жуть. Но когда сердце уже останавливалось от страха, приходило облегчение: где-то совсем недалеко глухую ночь проклевывали голоса петухов. Поэтому я поныне люблю ту пору, когда петухи своими крыльями прогоняют темень и нечистую силу, а пением начинают новый день.
Через некоторое время мать узнала о моих ухищрениях с ночником. И виноват в этом был только я. Из какой-то страшенной сказки на мою бедную голову вытрусилось столько чертей, леших и водяных, что они, обнаглев, начали выглядывать со всех щелей, высовывать языки и даже летать по комнате. Я неосторожно посмотрел на жердь над кроватью, увидел на ней черта и вскрикнул. Правда, сразу же оказалось, что это был не черт, а черные дедушкины штаны. Но эта ошибка дорого стоила мне: мать стала на ночь запирать плошку в сундук. К нему же я никак не мог добраться.
Так впервые нечистая сила хотела разлучить меня с печатным словом. И это было не хуже всего. Страшное началось значительно позже, когда нечистая сила разбирала, но не прощала мои книги и в каждой строке выискивала враждебные проявления, разную апологетику, извращения, крестьянскую ограниченность, крестьянские мелкособственнические тенденции и еще какую-то дрянь…
Дядька Николай, как иногда не хватало вашего топора, чтобы хотя бы отрубать хвосты той нечисти, что влезала в слово, как плодожорка в яблоко… Но вернусь снова к злосчастной плошке.
Я несколько дней и так и сяк добирался до сундука, подыскивал в железках разные ключи, но из этого ничего не вышло. Но разочарование не очень долго крутилось возле меня. Через несколько дней мне пришло в голову нафантазировать свой светильник. Делал я его весело, быстро и просто: дедовой ножовкой отчекрыжил донышко французского патрона, снизу в шейку втянул гнет, все это пропустил через сердцевину кукурузного початка и им наглухо закупорил небольшую банку с бензином.
Не знаю, была ли довольна мать своей выдумкой, а моя мне просто смеялась. Мать заметила, что со мной что-то происходит, недоверчиво потрогала крышку сундука, а я, чтобы не прыснуть, выскочил из дому.
Но сделать плошку было значительно легче, чем достать книгу. В ее поисках я обходил почти все село, лишился своих маленьких детских сокровищ, а иногда даже забирался на засторонок или вышки, где неслись куры. Так я познакомился с меновым хозяйствованием еще в двадцать первом году.
На ярмарке за тоненькую книжечку «Три сумки хохота» я отдал бесстыдному лавочнику целых пять яиц, найденных на вышках в гнезде той пеструшки, что всегда норовит тайно вывести цыплят, потому что очень хотелось посмеяться. Но недаром говорят: даст бог купца, а черт розгудца. Кто-то о моем торге передал матери, и дома за эти три сумки хохота имел я семь огорчений… Так и узнаешь, что смех и грех живут по соседству.
Больше всех над этими сумками хохота смеялся мой дальний родственник Гива. Он, узнав о моей коммерции, даже заплясал у себя на току, и заплясали все его кудри, которым было тесно под шапкой. Я хорошо знал, как дразнить Гиву: под бараньей шапкой — бараньи кудри. Но на этот раз ничто не могло рассердить развеселившегося парня. Его удлиненные, с веселым недоверием глаза, что уже в четырнадцать лет больше всего смотрели исподлобья, просто слезились от смеха.
— Вот кумерция, так кумерция: что куп, то и луп! — держа в руке шапку, отплясывал Гива по риге и никак не мог взяться за цеп. А за это малому молотильщику немало могло перепасть.
Гивины родители очень хотели быть богатыми, но так, чтобы всем людям казалось, что они бедные, как церковные мыши. Проклятая погоня за богатством научила их не беречь ни себя, ни детей своих, ни скот, ни слово, которое, где надо и не надо, хитрило, криводушничало и прибеднялось.
— Разве это волы? — махал рукой на свою же хорошую круторогую скотину дядька Владимир. — Это не тягло, а кости и болезни, зашитые в шкуру, зря только провиант переводит.
Люди то и дело слышали, что у дядьки Владимира меньше родит копен в поле, стогов на лугу и картофеля в огороде, сочувствовали ему в глаза и смеялись за глаза. Чтобы к нему меньше заглядывали соседи и непрошеные гости, осторожный дядюшка хитро приделал на сенных дверях защелку: закрывай за собой дверь, а защелка снаружи сама заходит в гнездо, и кто ни подойдет к порогу, видит, что дома никого нет. Когда к дяде Владимиру кто-нибудь обращался за ссудой, он сначала становился глухим, а дальше или молчал, или такое молол, что из дому хоть святых выноси. Даже в 1921 году, когда у нас люди орудовали миллионами, у дяди Владимира, как он говорил, не было за душой и ломаного гроша.
— Куда же вы их, Владимир, деваете: или солите, или квасите, или свежими поедаете? — иногда под рюмкой допытывался дядя Николай.
Тогда дядюшка Владимир столбенел, корячился, задыхался от возмущения или долгое время добывал из себя «э-э-э» и защищался от обидчика поднятой каракулей указательного пальца.
Но дядя Николай знал, как можно оборвать это «э-э-э». Он невинными глазами смотрел на дядьку Владимира, покачивал головой, а дальше наклонялся к его уху:
— А по деревне, слышите, слух пошел, что вы деньги мерками меряете, — от такого дядька Владимир сразу краснел, как цветок, хватался за шапку и бежал домой.
Самое интересное было послушать где-то в беседе разговор дядьки Владимира с дядей Колей. Дядька Владимир, выпив рюмку, еще больше прибеднялся, а самый настоящий нищий дядя Николай становился богатым, как царь. Он и похож был на нашего последнего императора, только имел более длинные усы и большую душу.
— Разве в этом году рожь? — подпирая рукой голову, так печалился дядя Владимир, что, казалось, слеза вот-вот капнет в миску с варениками. — Одни отсевки и житок, а не рожь.
— А у меня уродилось как! Зерно хоть в охапку, как дрова, клади, — не моргнув глазом, говорил дядя Николай. — Давно в моей риге не было такого рая.
— Везет же некоторым, — на широкий вид дяди Владимира выходила зависть. — А тут аж в глазах меркнет: одна беда уходит со двора, а свежая входит в ворота. Ничего нет тебе ни от луны, ни от солнца, ни от коровы молока, ни от свиньи копыт. Даже моя черная свинья подвела: опоросилась и подавила приплод.
— Неужели все подавила? — чистосердечно удивляется дядя Николай, словно и не знает, что Владимирова свиноматка придавила только одного поросенка.
— Считайте, что все, до последней шерстинки, — еще больше печалится дядя Владимир и накрывает глаза веками. — Да и сколько тех поросят было? У меня и свиньи норовят перейти на коровий приплод.
У дяди Николая брови хитро подпрыгивают вверх и даже дрожат от скрытой радости:
— А моя пестрая, слышите, как крольчиха, старается: как не четырнадцать, так шестнадцать приведет, и все как линьки.
— Шестнадцать!? — удивленно восклицал дядя Владимир. — Да что вы, Николай!? Не может быть!
— Разве вам далеко ходить — спросите у моих соседей. Они все завидуют мне, как и вы. Да что соседи — помещик из Литин приходил, мошной полдня тряс над моим ухом — всю деньгу отдавал за свиноматку, а я ее и за сумку червонцев не продам.
— Гм, везет же вам, и еще как везет — само счастье над вами сумкой трясет.
— Вот этого уж я не видел. А чего не видел, говорить не буду, — пускал дядя Николай шельмоватую улыбку на подбородок.
— И куда же вы деваете своих поросят? — нетерпеливо спрашивал дядя Владимир.
— И на торг вывозим, и сами едим, у меня все как-то привыкли к поросятине. Каким бы я был хозяином, чтобы вставал или ложился без нее?
И все кроме дядьки Владимира начинали смеяться, зная, что на завтрак и ужин у дяди Николая дымилась только картошка…
Владимировы же дети имели совсем другой характер и, где можно, подсмеивались над ухищрениями своих родителей. Вот и сейчас Гива припал к щели ворот, а дальше тихонько засмеялся: